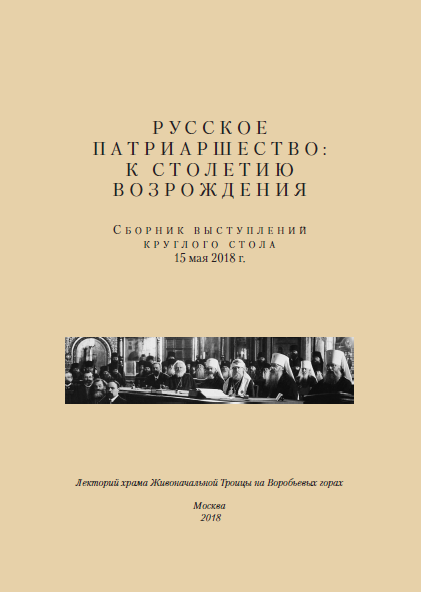Статья опубликована в сборнике «Теология: встреча Востока и Запада» (Кафедра теологии РГСУ, М., 2018).
Весной 1946 года знаменитый русский православный философ, основатель философии неопатристического синтеза, ставшей мейнстримом православной мысли второй половины ХХ века, протоиерей Георгий Флоровский был призван вести курс нравственного богословия в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Первую лекцию этого курса Флоровский начал с неожиданного заявления: “Всем известно, что в Православной Церкви нет учения о нравственности. Есть лишь учение о святости. Именно о нем мы с вами и будем говорить”.
Разумеется, отец Георгий имел в виду не то, что в православном христианстве отсутствует нравственный аспект, а то, что нравственность сама по себе, как самодовлеющая, автономная сфера, невозможна для христианства, и то же самое можно сказать про любую другую сферу бытия – и гносеология, и натурфилософия, и антропология, и эстетика, и политика, и историософия, и т.д. – все эти понятия в православном христианстве непосредственно укоренены в учении о Боге, в христианской теологии, которая обеспечивает всем этим сферам твердый мировоззренческий фундамент, а их основополагающим ценностям – теологический, метафизический или, в иной терминологии, онтологический статус, то есть статус объективно существующих, бытийных реалий, выполняющих системообразующее значение в христианской картине мира. Именно поэтому в контексте религиозного христианского сознания эти ценности не могут быть проигнорированы или релятивизированы, ведь они исходят от самого Бога-Творца, установлены Его волей, а не какими-то случайными человеческими конвенциями.
В качестве наиболее востребованного примера можно вспомнить христианское понимание любви, которое вовсе не сводится к субъективному сентиментальному переживанию. Даже в самых поверхностных рассуждениях по этому поводу часто цитируют известную максиму из Первого соборного послания Иоанна Богослова – «Бог есть Любовь» (1 Ин 4:8). Если воспринимать этот тезис в отрыве от богословского контекста христианского вероучения, то можно сделать вывод, что любое состояние, называемое словом “любовь”, есть Бог, или что сам Бог есть это состояние любви к кому угодно и к чему угодно, а тогда и сама вера в Бога будет исчерпываться лишь тем, чтобы поддерживать это состояние, и не более того. Тогда любой человек, просто любящий свое домашнее животное, а тем более своих непосредственных родственников и друзей, уже может полагаться христианином. В действительности же русским словом “любовь” мы переводим, как минимум, четыре разных понятия древнегреческого языка, означающих принципиально разные состояния. Есть просто любовь-филия, то есть влечение к чему-либо, будь то какая-то интересная тема или любимые продукты. Есть любовь-сторге, то есть любовь-привязанность или нежность, возникающая естественным образом. Есть также античная любовь-эрос, это более широкое понятие, предполагающее насыщенные психологические взаимоотношения с объектом такой любви. И, наконец, есть любовь-агапэ – именно этот термин используется почти во всех случаях, когда речь идет о любви в Новом Завете. Агапэ – это не просто бессознательное влечение к безличному объекту, это именно сознательная и волевая любовь личности к личности, поскольку каждая личность есть образ Божий, который никогда не исчезнет и навсегда останется в вечности. И эта любовь к образу Божию возможна именно потому, что она основана на любви к самому Богу – через любовь к образу Божию мы любим самого Бога. Именно поэтому на вопрос законника, какая заповедь наибольшая в законе, Иисус Христос отвечает: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим (Втор 6:5) – сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (.Лев 19:18, Рим 13:9); на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. (Мф 22:37-40)”. Конечно, в этой любви есть свое психологическое, эмоциональное содержание, а иначе и невозможно для человека, но ее основа – абсолютно онтологическая. Здесь сама абсолютная Истина, сам Сущий обращает к человеку императив – возлюби меня всем сердцем, душою и разумом, а поскольку каждый человек есть Его образ, то Его второй императив, основанный на первом, – возлюби ближнего, как самого себя. Заметим, что призыв любить “как самого себя” – также, в свою очередь, обусловлен тем, что я сам – это образ Божий, и сознавая в себе образ Божий, я люблю себя как образ Божий, иначе это был бы призыв к животному эгоизму и к соответствующей любви-страсти или любви-привязанности.
Таким образом, любовь в христианстве – онтологична, это неотъемлемая составляющая пути к спасению и обожению, которые также понимаются как объективный онтологический процесс преображения человеческой природы из одного состояния в другое, а не просто обретение приятного настроения, которое всегда субъективно. В этом заключается одно из кардинальных различий между христианским и секулярным сознанием, а следовательно, и их понимания такого привычного неологизма ХХ века, как “нравственные ценности”. Для христианства – добро, благо, благодать и т.п. понятия – это не просто красивые слова, которыми можно произвольно жонглировать в риторических целях, это “предметные”, содержательные категории, соотнесенные с бытием Бога-Творца, и христиане верят в то, что за этими категориями присутствует конкретная, объективная реальность. Христиане, действительно, верят в то, что все зло в мире это не условность и не безличный эффект каких-то естественных процессов, а результат свободного волеизъявления конкретных личностей – восставшего архангела и падших вместе с ним ангелов, а также грехопадения первых сотворенных людей, имеющих конкретные имена и живших в конкретное время и конкретном месте. Христиане, действительно, верят в то, что с грехопадением Адама и Евы вся природа исказилась и извратилась, и, как говорил апостол Павел в послании к римлянам – “Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу сынов Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне” (Рим. 8:19-23). Христиане, действительно, верят в то, что единственный, эксклюзивный путь спасения от власти греха – это Церковь Христова, и что вне Церкви нет спасения, и что по окончанию мировой истории и временной победы конкретного человека-антихриста, вновь явится Иисус Христос и совершит свой Страшный Суд над всеми людьми, когда-либо где-либо жившими, и одни из них навсегда обретут Царствие Божие, а другие навсегда отправятся в кромешную тьму. Это – основы христианства, и вне этой онтологической картины мира христианские понятия добра и зла просто не имеют никакого смысла.
Именно такое обессмысливание этических категорий и ценностей произошло в процессе новоевропейской секуляризации XVII-ХХ веков, к сожалению, ставшей мировоззренческой сущностью т.н. проекта Модерна. Изначально идеологи Модерна унаследовали многие христианские понятия и ценности, иногда по умолчанию, а иногда вполне осознанно, но уже на стадии т.н. Ренессанса они смешивались с возрожденными ценностями языческой античности, а в эпоху т.н. Просвещения либо прямо отрицались, либо окончательно лишались своего христианского содержания. В итоге процесс секуляризации христианских ценностей привел к их виртуализации, когда они превратились в обычные лозунги и ни к чему не обязывающие благопожелания. Даже знаменитая триада Французской революции – “Свобода! Равенство! Братство!” – имела свои христианские корни, но за эти лозунги ничем не были обеспечены, за ними не стояло никакой внятной онтологии. Почему именно эти ценности были заявлены как самые главные? Почему именно в таком порядке? И что будет, если им не следовать? Показательный факт – опасность такой виртуализации почувствовали уже сами французские революционеры и ничего луче не придумали, как решили основать собственную религию. Действительно, когда сакральное выгоняешь в дверь, то оно возвращается в окно.
Установив свою революционную диктатуру, якобинцы даже начали спорить, какого именно идола т.н. гражданской религии стоит навязать народу вместо христианской Божественной Троицы. Один из них, Пьер Гаспар Шометт (1763-1794), предлагал установить поклонение “Великому Разуму”, а в католических храмах был введен культ “Богини Разума”, которую изображали местные актрисы. Его конкурентом был культ абстрактно-безличного “Верховного Существа” Максимилиана Робеспьера, ставшего его официальным верховным первосвященником. Рудименты этого неоязыческого культа до сих пор сохраняются в тексте преамбулы к «Декларации прав человека и гражданина» (1789): “Национальное собрание признает и провозглашает перед лицом и под покровительством Верховного существа следующие права человека и гражданина”.
И это совершенно логично – этика сама по себе существовать не может, она нуждается в онтологическом обосновании. Если этика основана на чувстве долга, то возникает вопрос – откуда появилось это чувство? Вопрос ведь не в том, почему я должен, например, следовать каким-то правилам или учитывать чьи-то интересы, а в том, почему я, вообще, что-то должен?
Все же попытки сконструировать такую деонтологизированную, виртуальную этическую теорию оставались только теориями – от «Критики практического разума» (1788) Иммануила Канта с его отвлеченным “категорическим императивом” до неопозитивистской этики Джоржа Эдуарда Мура (1873-1958) (“Принципы этики” 1903) и Альфреда Айера (1910-1989) «Понятие личности и другие эссе», 1963), с их тезисом, что любое моральное высказывание обусловлено только эмоцией (эмотивизм).
Секуляризация этики закономерно привела к ее раздроблению на отдельные сферы, прежде всего, на открытое еще Гегелем различение морали, как внешне-формальной стороны этического, и нравственности, как внутренней ментальной установки. В итоге появилось такое громоздкое понятие, как “морально-нравственные ценности”, к которым иногда в качестве довеска дополняют понятия “духовных ценностей”. Возникает невольный вопрос – если это духовность, то какого именно духа? Потому что духи бывают разные: есть Дух Божий, а есть бесовские духи, так же как разными бывают “традиции” (к вопросу о “традиционных ценностях”) и даже общечеловечество в разных контекстах понимается по-разному (к вопросу об “общечеловеческих ценностях”). Вот эта безответственная аморфность, неопределенность, размытость этических ценностей под конец ХХ века была обусловлена полным разрывом этики и онтологии, который уже в постмодерной ситуации был возведен в абсолютный принцип: все ценности – это просто слова из реквизита лингвистических игр, за ними ничего нет, как и за любыми словами.
Однако уже в начале XXI века маятник истории качнулся в противоположную сторону и мы сейчас точно можем констатировать, что живем в эпоху медленного, спорадического, неуверенного и невнятного, но все-таки преодоления постмодерого хаоса. И наша страна, Россия, в этом преодолении играет ключевую роль, потому что только Россия из всех европейских стран оказалась наиболее независимой и дистанцированной от той перманентной культурной революции, которая продолжается на Западе с 1968 года. Но чисто внешняя независимость не всегда влечет за собой внутреннее освобождение. Если мы хотим возродить православную Россию, но наше сознание до сих пор пребывает в матрице секулярного мировоззрения, то никакого реального возрождения не будет. Если мы хотим культивировать т.н. морально-нравственные, “духовные”, “традиционные” ценности, но эти ценности не заимствованы из Священного Писания и Священного Предания Церкви, то мы будем культивировать пустышки, в которых никто не верит и мы сами, в первую очередь. “В Православной Церкви нет учения о нравственности. Есть лишь учение о святости” – сказал отец Георгий Флоровский, а следовательно, именно для того, чтобы спасти эти ценности, необходимо провести их ре-онтологизацию, то есть вернуть им реальность, бытие, жизнь, укоренить в абсолютной истине православного христианства.