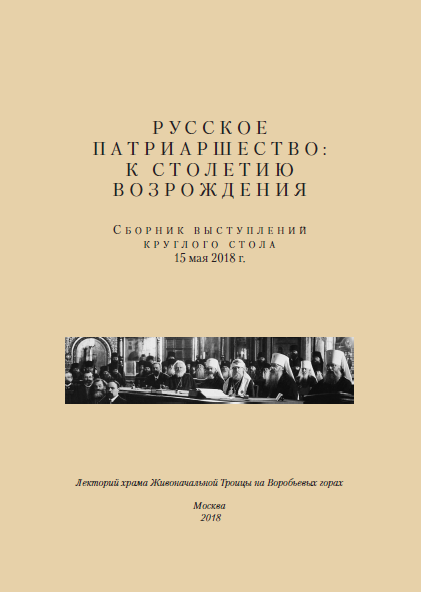В любой политической идеологии необходимо различать два принципиально разных концептуальных аспекта, которые в популярной риторике часто смешиваются вплоть до их полной неразличимости. Первый аспект наиболее очевиден – это те конечные цели и ценности, которые должны быть реализованы с точки зрения этой идеологии, это аспект долженствования, призывов, императивов, лозунгов. Второй аспект нередко выносится за скобки и даже умалчивается, хотя без него никакая полноценная идеология совершенно невозможна – это та картина мира, которая составляет необходимый онтологический фундамент этой идеологии и нередко преподносится как нечто само собой разумеющееся и якобы очевидное для всех. Прежде чем призывать людей к каким-либо действиям в этом мире, любой идеолог сначала должен описать этот мир и из констатации сущего вывести императив должного. Если между онтологическим и аксиологическим аспектами какой-либо идеологии обнаруживается логическое противоречие, то вполне можно сказать, что эта идеология очень плохо продумана и уже поэтому ложна. Если же между этими аспектами выстраивается прямая логическая связь, то из этого еще не следует, что эта идеология истинна, но она по крайней мере достаточно последовательна.
Если обратить внимание на все основные современные политические идеологии, то можно заметить, что при всем различии их аксиологических установок, на онтологическом уровне они все же имеют одно общее свойство – они сводят все социальные явления и процессы к безраздельному детерминизму сугубо природных, безличных факторов. В этой натуралистической редукции несложно убедиться на примере трех основных революционных идеологических позиций Модерна – национализма, социализма и либерализма. В случае национализма, часто выступающего под благородной маской “консерватизма”, эта редукция наиболее очевидна: здесь нация понимается как изначально природное, органичное целое, существующее по законам биологических видов и довлеющее над всеми своими “особями”. Немногие националисты столь откровенны в изложении своей политической онтологии, но без этой онтологической основы национализм перестает быть национализмом. Аналогичный онтологический базис встречается в самообосновании коммунистической идеологии, полагающей развитие человечества продолжением зоологической эволюции и вместо борьбы наций за существование утверждающей борьбу социальных классов. Однако из биологического детерминизма вовсе не следует, что общество должно ориентироваться только на коллективистские ценности, потому что из самого факта зависимости от природы еще не следует никакого долженствования. Законы природы сами по себе не имеют обязывающей силы, но зато имеют силу объяснительную: если согласиться с тем, что человек это лишь эволюционировавшее животное, то из этого еще не следует, что он должен вести себя как животные, но зато тем самым объясняется, что никаким иным образом, кроме как животное, он и не способен себя вести. Поэтому из натуралистического детерминизма эпохи Модерна следует не только такие коллективистские идеологии, как национализм или социализм, но также и либеральный индивидуализм, воспринимающий человека не как естественную часть коллективного организма, а как атомарного индивида, выступающего в качестве “собственника” доставшейся ему по рождению природы вида homo sapiens и имеющего право распоряжаться этой “собственностью” по своему усмотрению. Следовательно, имперсональный детерминизм остается общим мировоззренческим знаменателем для всех ведущих идеологий Модерна, каждая из которых уже имеет богатую историю своей реализации в самых разных странах Европы и всего мира.
Однако стоит заметить, что имперсональный детерминизм, как таковой, возник вовсе не в Европе эпохи Нового времени, а всегда был основополагающим принципом всех языческих религий и философий, включая все возможные религиозно-философские школы Античности, и в этом смысле проект Модерна был вполне логическим завершением европейского Ренессанса, так же как немецкий классический идеализм, по выражению отца Георгия Флоровского, был лишь “рецидивом дохристианского эллинизма”. Беспрецедентное значение проекта Модерна состояло в том, что в нем синтезировались античное и христианское наследие, но не так, как это произошло в “византийском проекте” IV века, где христианское содержание только лишь использовало античные формы, а на равных, где уже античное содержание вытесняло христианское. В проекте Модерна многие христианские ценности и представления сохранились по умолчанию и по-разному преломились во всех трех новоевропейских идеологиях, но они были лишены своей религиозной основы, потому что его ведущей тенденцией была антихристианская секуляризация, ставшая главной отличительной чертой западного мира. Таким образом, унаследованный от античности натуралистический имперсонализм способствовал вытеснению христианской веры, но вместе с этим сам подвергся секуляризации, так что можно прямо сказать, что специфической позицией Запада эпохи Модерна, не имеющей аналогов в мировой истории, стал секулярный имперсонализм.
В связи с этим имеет смысл обратить внимание на концептуальный смысл таких базовых оппозиций современной историософии, как “Запад – Восток” и “Европа – Азия”. Если отбросить все случайные свойства этих социально-философских категорий, то можно констатировать, что оппозиция “Запад – Восток”, в конечном счете, сводится к неснимаемому конфликту двух мировоззренческих установок – секулярной и религиозной, потому что во всем остальном они могут быть вполне солидарны. Причем речь идет не о следовании какой-либо конкретной традиции, а о самой установки на служение сверхъестественным ценностям, которая может выражаться в самых разных формах. И если говорить о восточном мире в безусловном смысле этого понятия, то можно также сказать, что для таких культур, как индуизм, джайнизм, буддизм, даосизм, синтоизм и т.п. общим мировоззренческим знаменателем будет религиозный имперсонализм, проповедь безличного абсолютного духа, хорошо знакомого западной философии от платонизма до гегельянства и т.н. философии жизни.
Несколько сложнее было бы определить оппозицию “Европа – Азия”, потому что понятие Европы более неоднородно и многогранно, чем понятие Запада, и весьма показательно, что Западная Европа более секулярна, чем Восточная, что не мешает последней оставаться именно Европой. Для того чтобы прояснить этот вопрос, необходимо вспомнить, какая именно идея была постоянным лейтмотивом европейской истории со времен Древних Афин, резко отличающей Европу от других цивилизаций: это идея прав и свобод частного человека, идея индивидуализма, получившая свое конечное воплощение в идеологии современного либерализма. В свою очередь, “Азией” называется не какая-то конкретная часть света, а все то, что не-Европа, весь тот мир, где ценности коллектива всегда выше ценностей индивида. В пределе можно говорить о конфликте двух взаимоисключающих мировоззренческих установок – секулярном индивидуализме Западной Европы и религиозном коллективизме Восточной Азии.
Где же этом перекрестье находится Россия? Если собрать все основные работы, призванные раскрыть понятие Русской идеи, то их неизменным рефреном остается указание на глубокую амбивалентность и полярность русского самосознания, обусловленную, прежде всего, пограничным положением России между Западом и Востоком, Европой и Азией. Поскольку такое “пограничное” позиционирование России давно уже стало общим местом многих историософских рассуждений, то оно часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся и не требующее обоснований. В действительности этот подход скорее откладывает вопрос о реальном положении и миссии России, чем проясняет его. Поскольку восточные границы России совпадают с границами самого континента и все азиатские соседи России на континенте располагаются вдоль ее южной границы, то говорить о России как некоем пограничье между Востоком и Западом заведомо неверно. Кроме того, подобное положение России вовсе не объясняет ее уникальность: в Старом Свете можно найти целый ряд стран, которые также существуют между Европой и Азией, и, в отличие от России, реально сочетают в себе элементы как европейских, так и азиатских культур. Если же у этого подхода есть объективная правда, то она состоит в том, что на протяжении всей своей истории Россия, действительно, заметно отличается как от всех азиатских, так и всех европейских стран. И географический фактор в этом отличии сыграл не последнюю роль: Россия никогда не была частью азиатского мира, а пришла в Азию с запада и с севера, а по отношению к Европе Россия всегда была самой восточной европейской страной, дошедшей до естественных границ евроазиатского континента на востоке и ставшей крупнейшей в мире сухопутной империей, способной сопротивляться самому Западу.
Однако сколь бы существенным ни был географический фактор в формировании русского национального самосознания, основывать на нем Русскую национальную идею и идеологию – это значит обезличивать русский народ, уподобляя его очередной биологической популяции, полностью зависящей от своего биогеоценоза. В этой редукции национального к природному заключается опасность низведения человека к животному, что очень хорошо прослеживается во всех секулярных теориях этногенеза, и поэтому на онтологическом уровне между идеологией евразийства и самого примитивного этнического национализма никакой разницы нет. Именно потому, что любая нация состоит не из безличных особей или атомарных индивидов, а из уникальных, живых, конкретных личностей, на ее природное начало, обусловленное географией или генетикой, наслаивается коллективный исторический опыт относительно произвольного взаимодействия как внутри нации, так и с другими нациями, в развитии которого отдельные группы и даже отдельные личности часто играют еще более значимую роль, чем какие-либо безличные факторы. История любой нации не запрограммирована и не предсказуема, это живая динамическая реальность, а ее культура, цивилизация, идеология не вырастает из природной стихии в качестве ее “надстройки”, а создается конкретными творческими личностями, составляя ее “вторую природу” (как сказал бы Шеллинг), которая нередко может входить в противоречие с первой. У каждой развитой нации, в том смысле этого слова, которое превосходит биосоциальное понятие этноса, всегда есть свое сверхприродное начало, выраженное в ее интеллектуальной культуре. Если говорить о России, то этим началом со времен исторического выбора киевского князя Владимира является православное христианство и только оно.
В определяющем влиянии Православия на Россию, как ни странно, парадоксальным образом сыграл свою роль все тот же географический фактор, но не в качестве источника для какого-либо положительного содержания, а как раз в качестве tabula rasa – в качестве пространства, которое не имело никакой сильной традиции, сопоставимой с православием, и куда православие пришло уже во всем богатстве своего культурного развития. В отличие от Греции или Италии у России не было своей античности и даже в сравнении со всеми другими православными народами балканского или кавказского региона, непосредственное влияние византийской культуры на Русь было самым далеким, если только не иметь в виду территорию Северного Причерноморья, которая для Древней Руси была такой же периферией, как и для самой Византии. С христианской точки зрения в этой культурной примитивности дохристианской Руси (сравнительно с высокой византийской культурой) было огромное преимущество перед всеми странами античного ареала, потому что она не позволяла русскому народу, подобно маловерной жене Лота, оглянуться назад и в любой момент предпочесть христианству собственную, “автохтонную” традицию. В сравнении с греческими, римскими и многими другими дохристианскими традициями древнерусское язычество было настолько неразвитым, что не смогло составить реальную конкуренцию православному христианству и любые попытки реанимировать его в наше время остаются лишь фантазийной реконструкцией. Следовательно, у России нет иного мировоззренческого фундамента, кроме как православного христианства и поэтому любое отречение от Православия для русского народа неизбежно повлечет за собой кардинальный слом национальной идентичности, в конечном счете ведущий к национальному самоубийству, что однажды уже чуть было не произошло русской истории, в результате коммунистического эксперимента, и что еще может произойти, если Православие в России будет низведено до уровня одного из многих религиозных культов, как это предполагается в либеральной утопии.
Какое же значение имеет православная идентичность России в обозначенном цивилизационном перекрестье Запада и Востока, Европы и Азии? Если совершить философскую экспликацию православного вероучения и попытаться выявить те эксклюзивные ценности, которыми современный мир обязан именно христианству, то первой среди них будет ценность личности, само понятие которой возникло именно в контексте христианской теологии и из нее пришло в европейскую интеллектуальную культуру. Христианство определяет Бога как личность и каждого человека также как личность, потому что человек создан по образу Божию (Быт 1:26, 27). Основными неотъемлемыми свойствами личности является ее разумность и свобода, а следовательно, способность к самоуправлению, ответственности, творчеству, а также общению, соуправлению и сотворчеству с другими личностями. Таким образом, если христианское вероучение возможно определить в философских координатах, то это именно персонализм, причем, конечно, речь идет не о какой-то его отдельной авторской версии персонализма, а о самом принципе персоналистской философии, полагающей Личность наивысшей онтологической инстанцией и, одновременно, наивысшей ценностью.
По этому поводу можно было бы возразить: а причем здесь именно Россия, если христианство было доминирующей религией во всей Европе и персоналистские тенденции в разной степени можно считать отличительной чертой всей европейской философии (как, например, утверждал французский персоналист Жан Лакруа)? Это возражение было бы справедливым, если бы христианство в Европе сохранило свою ортодоксальную чистоту и не претерпело целый ряд сущностных трансмутаций, начиная с католического раскола. Если проанализировать философский аспект всех католических лжедогматов, то можно увидеть, что каждый из них, начиная с Filioque, был отходом от персоналистской сущности христианства в сторону религиозного имперсонализма и не случайно именно в Западной Европе возобладал ренессанс античного учения о безличном божестве, ставшим отправным понятием для всего философского идеализма от Плотина до Гегеля. В итоге христианское понимание личности на Западе было подорвано и испытало основательную секуляризацию, а ведущей идеологией Запада стал секулярный персонализм, который точнее было бы определить как индивидуализм, поскольку понятие личности без своего метафизического обоснования в Боге утрачивает свой смысл.
Но не вся Европа отпала от истинного христианства: оставшийся в Восточной Европе православный мир неоднократно подвергался основательной вестернизации, но само Православие как догматическое вероучение не было искажено. И поскольку Православие является истинным, подлинным, ортодоксальным христианством, постольку православный персонализм остается истинным, подлинным, ортодоксальным персонализмом. Несмотря на то, что философский персонализм с разной степенью интенсивности развивался во всех ведущих европейских странах, именно в русской религиозной философии он получил наиболее последовательное и разнообразное развитие. Достаточно вспомнить, что первая философская школа персонализма, иначе известная как русское неолейбницеанство, была основана немецким философом Густавом Тейхмюллерем именно в Российской империи, в Дерптском университете, где он преподавал с 1870 года и обрел множество русских учеников. Именно в России, на русской культурной почве, появились такие разные персоналисты ХХ века, как Виктор Несмелов, Николай Бердяев или Владимир Лосский, который вместе с отцом Георгием Флоровским стал родоначальником такого персоналистского направления, как неопатристический синтез, ставший ведущим направлением мировой православной мысли второй половины ХХ – начала XX века.
Разумеется, из всего вышеизложенного совершенно не следует, что русские интеллектуалы в своем большинстве и сама российская государственность придерживаются православного персонализма, но в той степени, в которой Россия действительно ориентируется на православное христианство, в той степени ее фундаментальной, имплицитной, потенциальной философией является именно православный персонализм, который может и должен составить мировоззренческую основу полноценной Русской идеи – уникальной и универсальной. И в таком случае можно прямо констатировать, что если Восток пошел по пути религиозного имперсонализма (коллективизма), а Запад по пути секулярного персонализма (индивидуализма), то Россия идет третьим путем – путем христианского, то есть религиозного персонализма. Кстати заметим, что в комбинировании этих понятий не хватает четвертого элемента, а именно – секулярного имперсонализма (секулярного коллективизма), который на самом деле также реально существует, потому что им охватываются все варианты тоталитарных идеологий Модерна от крайне-левых до крайне-правых, и все соответствующие режимы вполне укладываются в этот тип, но другой вопрос, что все они обречены на вырождение вместе с самим Модерном. Человеку можно внушить, что он лишь элемент в космической иерархии и должен жертвовать собой ради сверхъестественного. Человеку также можно внушить, что он лишь атом в бездушной вселенной и никому ничего не должен. Но внушить человеку, что ничего сверхъестественного не существует и он лишь эволюционировавшее животное, а при этом почему-то должен жертвовать собой ради виртуальных сверхиндивидуальных ценностей – совершенно невозможно. Стоит ли оговаривать, что все попытки построения секулярно-коллективистских идеологий и режимов, прежде всего, коммунистических, в действительности эксплуатируют сугубо религиозные архетипы и мотивы, от языческих до христианских.
В своем политическом измерении христианский персонализм обладает одним кардинальным преимуществом перед всеми иными идеологиями – в нем абсолютно отсутствует утопическое начало, свойственное всем революционным и прогрессистским идеологиям, но при этом присутствует оправдание индивидуального творчества и социального проектирования, к которым так настороженно относятся многие консервативные традиционалисты. Христианство в принципе несовместимо ни с какой утопией, потому что любая утопия, в конечном счете, предполагает сущностное изменение человеческой природы, а с точки зрения христианского вероучения сущность человеческой природы неизменна, человек всегда остается человеком, а все несовершенства и пороки общества объясняются грехопадшим состоянием этой природы, которая может преобразиться только в результате личного духовного пути навстречу Богу и встречного воздействия нетварной Божественной благодати, а не в результате каких-либо магических и механических социальных экспериментов. В грехопадшем мире никакой земной рай и “золотой век” невозможны, а Царство Божие наступит только после Страшного Суда и только для спасенных христиан. Но из этого антропологического пессимизма и апокалипсического понимания истории вовсе не следует призыв к созерцательному недеянию и отказ от прогресса как такового. Именно потому, что человек это личность, то есть образ Божий, он призван к творчеству и сотворчеству, к деятельному совершенствованию самого себя и окружающего мира. И это только одно из многих преимуществ христианского политического персонализма в сравнении со всеми другими идеологическими альтернативами.
Социально-политическая мысль христианского персонализма имеет богатое и до сих пор недостаточно исследованное наследие, которое вполне может быть взаимодополнено какими-либо иными идеями и направлениями, если они не противоречат основополагающим принципам христианского персонализма как такового. Оставаясь принципиальным на уровне своего богословско-догматического фундамента, на всех остальных уровнях христианский, а точнее, православный персонализм открыт к взаимовлиянию с самыми разными философскими, научными, идеологическими, историософскими и эстетическими позициями и интуициями. На сегодняшний день, при первом приближении, политическая философия христианского персонализма в значительной степени отражена в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», принятых на Архиерейском Соборе 2000 года, и можно прямо сказать, что официальное социальное богословие нашей Церкви до сих пор развивается именно в этом русле. Вместе с этим стоит вспомнить, что для России в православном христианстве заложен не только мировоззренческий фундамент ее культуры, но и основной смысл ее истории, поскольку после падения Византии в 1453 году именно Россия унаследовала миссию православной империи, то есть миссию Катехона и Третьего Рима. И несмотря на то, что с того времени Россия переживала различные периоды достаточно радикальной секуляризации и вестернизации, к началу XXI века, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, она все равно сохранилась на карте мира как самое большое и достаточно могущественное государство, где само православное христианство не просто сохранилось как национальная традиция и титульная конфессия, а свободно и активно развивается, распространяя свою миссию на другие страны и народы. И так же, как это было многие столетия раньше, так и сегодня именно от России зависит миссионерская судьба Православия во всем мире, а, следовательно, и спасение всех людей в единственно истинной христианской Церкви. Соответственно, и сама Русская идея может быть только ничем иным, как философской и идеологической проекцией православного вероучения, непосредственно следующей из его основ, без каких-либо гибридных вариаций и девиаций. Единственным реальным претендентом на роль такой проекции остается только православный персонализм, осмысленный, осознанный и выстраданный всей историей русской православной мысли.
Статья опубликована в Вестнике Экспертного центра ВРНС (2017, Вып.4)
Иллюстрация: свод Ферапонтова Белозерского монастыря, фрески Дионисия (нач. XVI в.).
Поддержать деятельность Интеллектуального Клуба «Катехон»:
№ карты Сбербанка VISA: 4276 3801 2501 4832