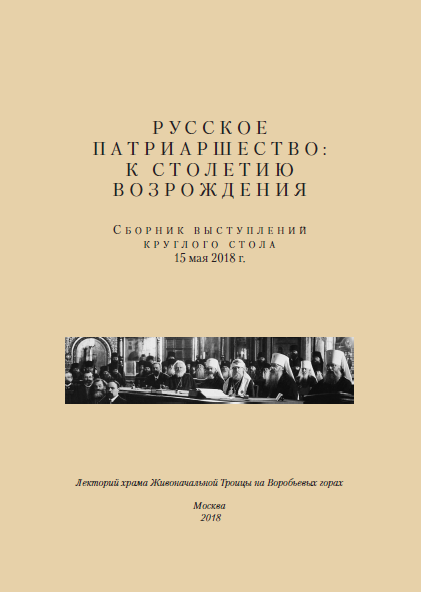Статья опубликована в сборнике «Русское Патриаршество: к столетию возрождения» (М., 2018)
Такие ключевые исторические события в самоорганизации Русской Православной Церкви, как утверждение Московского Патриаршества в конце XVI века и его восстановление в начале ХХ века, имеют принципиальное богословское и идеологическое значение для развития не только русской церковности, но и всей православной цивилизации в целом. Решения подобного масштаба в истории Православной Церкви всегда должны иметь фундаментальное мировоззренческое оправдание, основанное на Священном Писании и Священном Предании, на соответствующей доктринальной экклезиологии и историософии, и в конце концов, на том особом церковно-политическом учении, которое неизбежно выводится из православного мировоззрения и которое можно прямо назвать политической теологией и православной идеологией.[1] Так же как и самопровозглашение московской автокефалии в 1448 году, так и учреждение Московского Патриаршества в 1589 году, не могло быть следствием исключительно секулярных причин: социальных, институциональных, политических, геополитических и уж, тем более, чисто экономических, как это принято считать в позитивистской или марксисткой историографии. И если в современной гуманитарной науке нередко наблюдается влияние религиозного фактора даже на явления “светской” жизни,[2] то тем более этот фактор невозможно отрицать при выяснении определяющих причин преобразования религиозных институтов в религиозную эпоху, когда все решения общегосударственной значимости должны были иметь вероучительное обоснование в рамках принятой конфессиональной традиции.
Необходимо заметить, что закрепленный на IV Вселенском (Халкидонском) Соборе в 451 г. титул Патриарха не является высшим, “четвертой” степенью священства, ибо как носитель священного сана патриарх это епископ, непосредственная каноническая власть которого распространяется только на территорию его (столичной) епархии, а статус Патриаршества не является какой-либо высшей степенью автокефалии, поскольку все Поместные Церкви в православной экклезиологии принципиально равны. Появление самого статуса Патриаршества в V веке было закономерным следствием неизбежного усложнения многоуровневой системы церковного управления, обусловленного расширением территориальных масштабов Поместных Церквей и постоянным ростом числа прихожан. Именно поэтому возникла необходимость дифференцировать управленческие функции духовенства, введя известную “правительственную иерархию” с такими титулами, как игумен или архимандрит у иереев, а также митрополит или архиепископ у архиереев. Но к середине V века этих различий оказалось недостаточно и был введен титул Патриарха (букв. “отца-властилеля”) для епископов-предстоятелей крупнейших Поместных Церквей. Таким образом, само понятие Патриаршества должно указывать на особо крупные масштабы соответствующей Поместной Церкви, которые в свою очередь обусловлены ее миссионерскими успехами и заметным геополитическим влиянием, какие были у Константинопольской, Александрийской и Антиохийской Церквей.[3] Поэтому наделение какой-либо крупной кафедры статусом Патриаршества означало не просто подтверждение ее автокефалии, а признание ее значительных социальных масштабов, почему этот статус оказался столь желанным для всех канонических и неканонических юрисдикций. И в этом смысле можно сказать, что введение статуса Патриаршества, как такового, имело чисто секулярные предпосылки, насколько секулярной может быть церковная политика, априори мотивированная религиозными представлениями, ведь изначальным импульсом социально-политического развития любой Церкви является ее миссионерская экспансия, а не какие-либо иные причины.
Но исторический контекст отношений Константинопольского Патриархата и Русской Церкви XV-XVI вв. не позволяет свести учреждение Московского Патриаршества лишь к признанию ее социальных масштабов. Прежде всего, стоит помнить, что это событие означало окончательное и бесповоротное подтверждение Константинопольским Патриархатом русской автокефалии, возникшей еще в 1448 году, в результате открытого конфликта с самим Константинополем. Будучи канонической частью Константинопольской Церкви, Московская митрополия не признала решения Ферраро-Флорентийского собора 1438-45 гг. и отвергла унию с Римско-католической церковью, как с расколом и ересью, и только на этом, единственно возможном каноническом основании самостоятельно вышла из подчинения Константинополю и объявила о своей самостоятельности, в полном соответствии с 15-м правилом “Двукратного” Константинопольского собора 861 г. Следовательно, признание церковного суверенитета Русской Церкви в XV веке автоматически означает осуждение Флорентийской унии, которое в свою очередь возможно только в связи с осуждением латинского католицизма как догматической ереси, а Римско-католической церкви как еретического раскола. И наоборот, осуждение самовольного отделения Московской митрополии от Константинопольской Церкви в 1441-1448 гг. означает оправдание унии и признание католицизма в качестве православного вероучения. Поэтому, когда представители фанариотской экклезиологической позиции утверждают, что Русская Церковь в 1448 году “ушла в раскол”, то они тем самым только оправдывают унию и признают католицизм, что прямо противоречит официальной позиции самой Константинопольской Церкви, которая после падения Византии неоднократно осуждала отступление своих иерархов, вплоть до соборного осуждения унии в 1484 г., и открыто проводила более-менее последовательную антикатолическую позицию. Не случайно сам Константинопольский Патриарх Иеремия II Транос (правил с перерывами в 1572-1595 гг.), подписавший Уложенную грамоту Московского Собора об учреждении Патриаршества, был одним из самых активных антикатолических и антипротестантских полемистов. Отрицая унию, он также отверг и календарную реформу римского папы Григория XIII в 1583 году, а на том самом Константинопольском соборе 1593 года, где все четыре греческих патриарха подписали признание Московского Патриаршества, также был осужден григорианский календарь и анафематствованы его сторонники. Кроме того, это признание не в последнюю очередь было связано с необходимостью политически усилить Русскую Церковь в сопротивлении польской католической экспансии, которая не заставила себя ждать. Уже через несколько лет, в 1596 г., будет заключена Брестская уния, в 1605 г. первый Московский Патриарх Иов будет репрессирован властью польского ставленника Лжедмитрия I, в 1612 г. второй Московский Патриарх Гермоген будет замучен за отказ признать католического царя,[4] а в 1621 году третий Московский Патриарх Филарет, проведший в польском плену восемь лет, проведет Собор, на котором будет постановлено “перекрещивать” католиков и протестантов. Поэтому можно констатировать, что генезис Московского Патриаршества с самого начала был исторически связан с сопротивлением католическому влиянию, и весьма показательно, что последующие пределы канонической территории Московского Патриархата расширили православный мир до размеров, вполне соотносимых с масштабами Римско-католической церкви.
Однако такие убедительные достоинства Русской Церкви XV-XVI вв. с точки зрения православного самосознания, как стойкая верность ортодоксальному вероучению и объективные геополитические преимущества, могли быть недостаточным основанием для утверждения Патриаршества со стороны Константинопольского Патриархата. По этому поводу следует заметить, что поскольку Русская Церковь уже была автокефальной, обретение Патриаршества для нее вовсе не требовало согласия со стороны какой-либо иной Поместной Церкви, а тем более, недопустимо говорить о том, что Константинопольский Патриархат “предоставил” или “подарил” Русской Церкви этот статус. Так же как Великий князь Московский Иоанн IV мог стать царем в 1547 г. без какого-либо признания со стороны других монархий, так и Московский митрополит в 1589 году мог быть возведен в Патриарха без одобрения других патриархатов. Но оба события возможны были не только потому, что Константинопольская Церковь однажды приняла католическую ересь и утратила власть над Московской Русью, но еще и потому, что в результате этого вероотступничества, в православном понимании, пал сам Константинополь – столица некогда могущественной Ромейской (Византийской) империи. Дело в том, что в православной политической традиции Византия воспринималась не только как самое могущественное православное государство, каким она действительно была многие столетия, а прежде всего, как то самое Римское государство, которое по определению свт.Иоанна Златоуста из его толкования на Второе Послание апостола Павла к Фессалоникийцам (2 Фес 2:7), является “удерживающим” (κατεχων) началом мира от его падения под действием “тайны беззакония” (μυστήριον ἀνομίας), т.е. пришествия антихриста. Таким образом, историческая Римская империя, которая в толковании св.Ипполита Римского на Книгу пророка Даниила интерпретировалась, как последнее “железное царство” (Дан 2:40), должна была существовать до конца времен, а ее исчезновение означал конец самого мира. Разумеется, такое понимание римской власти не могло пользоваться особенной популярностью среди христиан первых трех веков, периодически страдающих от различных гонений, но когда к всеобщей неожиданности сама Римская империя в IV приняла христианство в качестве официальной религии, промыслительный смысл существования римской власти стал более очевиден. Основанная императором Константином в 330 г. новая столица Римской империи понималась отныне как центр нового, христианского мира, и Новый Рим стал не только геополитической, но и богословской категорией, закрепленной в 3 правиле II Вселенского Собора 381 г.: “Константинопольский епископ да имеет преимущества чести по Римском епископе, потому что град оный есть новый Рим”. Обратим внимание, именно поэтому Константинопольский патриарх будет носить звание “вселенского” и “первого среди равных”, т.е. фактически “столичного” или “имперского” патриарха, управляющего тем городом, где находится резиденция императора.
Осознание Византии оплотом ортодоксальной веры особенно возрастало по мере отпадения западной Римской Церкви в догматические ереси и усиления германской империи Каролингов, Оттонов, Гогенштауфенов и Габсбургов, претендующих на статус новой Римской империи как оплота католической веры. Между тем, существуя более тысячи лет и в последние столетия сокращаясь до окрестностей Константинополя, Византия окончательно исчезла под натиском османского султана Мехмеда II в 1453 г., что для православных людей во всем мире могло означать падение самого мира, ведь пала не просто столица православного царства – пал Новый Рим, сам “удерживающий” перестал удерживать силы антихриста. Подтверждением этих апокалипсических настроений был тот факт, что практически все православные народы и Поместные Церкви на всех трех континентах оказались оккупированы мусульманской властью, а осевшие в Константинополе султаны провозгласили свою империю мировым халифатом, т.е. оплотом мирового ислама.[5] Но такие настроения были бы полностью оправданы, если бы в “далеких лесах” северо-восточной Европы не сохранился единственный оазис византийской культуры, православная Русь, освобождающаяся от ордынского ига и объединяющаяся под началом Великого княжества Московского. Независимость и масштабность – вот два основных критерия, которые позволили Московскому княжеству претендовать не только на культурное, но и на политическое наследие Византии как оплота мирового православия, что неизбежно породило представление о Москве как Новом Константинополе или Третьем Риме.
Историческими преемниками религиозной миссии Константинополя могли бы быть самые разные православные государства, наследующие как культурную, так и политическую традицию Византийской империи: достаточно вспомнить одновременно сосуществующие на Балканах и оказывающие серьезную геополитическую конкуренцию самой Византии Сербское царство Стефана IV Душана (1331-1355) или Болгарское царство Ивана Александра (1331-1371). И даже после падения Константинополя некоторые осколки Византии еще продолжали свое существование – Морейский деспотат до 1460 г., Трапезундская империя до 1461 г. и Эпирское царство до 1479 г. Но все эти государства даже на пике своего регионального могущества были слишком маленькими перед совокупными силами как католического Запада, так исламского Востока, и поэтому все они были обречены на скорое исчезновение. По этой же причине были ликвидированы первые славянские Патриархаты, Болгарский (Тырновский) 1235-1393 гг. и Сербский (Печский) 1346-1463 гг.: их государства проиграли османским завоевателям. Поэтому можно перечислять самые разные, объективные и субъективные несовершенства Русского государства, но оно постоянно укреплялось и расширялось, и поэтому смогло обеспечить защиту Русской автокефалии – единственной в мире независимой Православной Церкви. Для православного самосознания этот факт имел определяющее значение, а все остальные события византийского преемства, от венчания великого князя Иоанна III на племяннице последнего византийского императора Софии Палеолог в 1472 г. до унаследования византийского герба Палеологов на государственной печати Иоанна III в 1497 г. были лишь закономерным следствием этого факта, хотя их юридическое и символическое значение нельзя недооценивать. Конечно, если бы от Византийской империи остался даже один только город Константинополь, и он бы продолжал существовать в качестве независимого православного государства, то никакой речи о Третьем Риме не могло бы быть, и именно поэтому наделение каких-либо православных монархов статусом царей или императоров при существующем ромейском государе было весьма сомнительным. Точно так же, как не могло бы быть речи об автокефалии Русской Церкви, если бы Константинопольская Церковь сохраняла верность православию и не принимала католическую унию. Но как Ветхий Рим пал в V веке, а Римская кафедра окончательно откололась от Православной Церкви в XI веке, так и Константинопольская кафедра отреклась от православной веры, приняв Флорентийскую унию, а вместе с ней пал и Второй Рим в 1453 г. Поэтому великий московский князь, возглавляющий единственную в мире независимую православную державу, мог стать новым православным царем,[6] а московский митрополит, управляющий единственной в мире независимой Православной Церковью, мог стать Патриархом. При этом, заметим, что имея все основания именовать Русское государство Третьим Римом, русские интеллектуалы XV-XVI вв. не спешили с этим неизбежным признанием, что можно объяснить только особой смиренностью и скромностью, свойственными менталитету русских людей, веками воспитанных в православной вере. Если западные государства и государственные образования со времен первых варварских королей конкурировали за имидж истинного наследника Западной Римской империи и подлинного оплота христианской государственности,[7] то Великое княжество Московское долгое время как будто бы считало себя недостойной неожиданно унаследованной миссии и стеснялось заявлять о своем ромейском наследстве. Достаточно вспомнить, что само Царство в Московской Руси будет установлено почти через столетие после падения Константинополя, а Патриаршество почти через полтора столетия.
Когда в популярной литературе идет речь об основных источниках идеи “Москвы – Третьего Рима”, то нередко упоминают известные народные легенды XV-XVI вв.: 1) о священных бармах и венце императора Константина IX Мономаха, дарованных благоверному киевскому князю Владимиру Мономаху, 2) о белом клобуке папы Сильвестра, дарованному новгородскому архиепископу Василию, 3) о происхождении первого русского князя Рюрика в четырнадцатом колене от брата императора Октавиана Августа по имени Прус. Однако даже если вынести за скобки вопрос об исторической достоверности этих легенд, все они говорят только о возможных и вторичных предпосылках унаследования Русским государством миссии Христианского Рима, и игнорируют главное условие этого наследства – факт падения Второго Рима. Более того, само существование Византии в двух последних легендах как будто бы оказывается ненужным и доказывается непосредственное преемство Руси и Первого Рима. Аналогичное игнорирование Византии встречается в ультразападнических трактовках идеи Третьего Рима, которая якобы была инсинуирована московским государям римскими папами для того, чтобы обратить их в католицизм и натравить на турецкого султана, а также в гипотезе о заимствовании двуглавого орла не от Византии, а от австрийских Габсбургов. Показательно, что подобные представления об исключительно западном происхождении типично византийских политических идей и символов на Руси, включая идею сильной патриаршей власти, также встречается среди старообрядческих и простарообрядческих авторов, видевших в реформах Патриарха Никона не столько греческое, сколько именно латинское влияние.
Несравнимо более авторитетным источником идеи Третьего Рима для православного самосознания, чем какие-либо легенды, является знаменитое послание инока Псковского Спасо-Елеазаровского монастыря Филофея (1465-1542) великокняжескому дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину в 1523 г., где псковский инок обличает распространенное в русской элите увлечение астрологией, не достойное христиан и тем более порочного для Руси как последнего оплота истинного христианства, и поэтому заявляет: “все христианские царства приидоша в конець и снидошася во едино царьство нашего государя, по пророчьскимь книгам то есть Ромеиское царство. Два убо Рима падоша, а трети стоит, а четвертому не бытии.” Стоит заметить, что данное послание, равно как и его последующие реплики, имеет уникальное историческое значение именно потому, что это первый зафиксированный прецедент упоминания самого понятия Третьего Рима по отношению к России. На данный момент исторической науке досконально неизвестно, насколько популярно было это послание в среде той самой русской элиты, но в любом случае весьма примечательно, что инок Филофей излагает свою историософскую позицию не как некое откровение, а как констатацию очевидного факта, который все знают, но никто еще не удосужился сформулировать на бумаге.
Однако насколько бы авторитетным ни было послание инока Филофея, идея Москвы – Третьего Рима так бы и осталась частным богословским мнением и не имела бы никакой общерцерковной силы, если бы однажды она не была бы сформулирована в официальном документе церковно-государственной значимости: Уложенной грамоте Московского Поместного Собора на учреждение Московского Патриаршества. Как уже было замечено, решения подобного масштаба в церковной истории должны иметь фундаментальное богословское обоснование, тем более важное для Константинопольской Церкви, которая никоим образом не была заинтересована в появлении еще одной православной Патриархии, с несравнимо большими размерами и возможностями, чем у самой “вселенской патриархии”, представляющей собой этноконфессиональное гетто в районе Фанар. Именно поэтому необходимы основательные канонические причины для признания Русской Церкви как нового Патриархата, и эти причины были очевидны: Новый Рим, действительно, прекратил свое существование еще 136 лет назад, а у Русского государства, действительно, появились все необходимые признаки наследования самой миссии Нового Рима. Во-первых, Русское государство это единственная в мире независимая православная держава. Во-вторых, это единственная православная держава, способная защитить Церковь и распространять православную веру. В-третьих, род последних византийских императоров, Палеологов, сочетался с родом московских Рюриковичей, и поэтому последующие русские государи наследуют византийский трон. В-четвертых, Русское государство уже давно стало Царством и в этом качестве признается всеми православными Церквами. Следовательно, Русская Церковь более чем достойна статуса Патриаршества и поэтому в Уложенной грамоте 1589 года за подписью Константинопольского Патриарха Иеремии II Траноса написано следующее обоснование: “Понежъ убо ветхий Рим падеся Аполинариевою ересью, Вторый же Рим, иже есть Костянтинополь, агарянскими внуцы от безбожных турок обладаем; твое же, о благочестивый царю, Великое Росийское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивая царствие в твое во едино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешись во всей вселенней, во всех христианех.”
Если современная историческая наука не имеет доскональных данных о степени популярности богословского послания инока Филофея, то сравнительный анализ текстов этого послания и Уложенной грамоты явно свидетельствует о влиянии первого на последнее, особенно приведенный фрагмент о Третьем Риме. С момента подписания этого документа можно констатировать, что идея Великой России как Третьего Рима стала краеугольным богословским основанием церковно-государственной идеологии русской монархии и фундаментальной концептуальной составляющей Священного Предания Русской Православной Церкви. Об этом прямо пишет исследователь данной темы Н.В.Синицина: “Концепция Третьего Рима, служившая с момента создания одним из обоснований автокефалии русской Церкви, была закономерно включена в Уложенную грамоту – памятник древнерусского канонического права; тем самым и сама идея приобрела историко-канонический характер”.[8] Таким образом, идея Третьего Рима неразрывно взаимосвязана с самой идеей Московского Патриаршества: эта идея содержала в себе богословское обоснование института Патриаршества, а само Патриаршество стало существенной символической компонентой этой идеи, аналогично самому Царству.
В 1590 году в Константинополе состоялся Освященный Собор, где трое “восточных” Патриарха одобрили введение Московского Патриаршества: сам Константинопольский Иеремия, Антиохийский Иоаким и Иерусалимский Софроний. Но признав Уложенную грамоту Патриарха Иеремии, Константинопольский Собор не стал развивать идею Третьего Рима, поскольку это означало бы поставить Русскую Церковь на второе место в диптихе Православных Церквей, сразу после Церкви несуществующего Второго Рима. Гордыня и зависть греческих патриархов не позволила им сделать этот следующий закономерный шаг, а кроме того, не стоит забывать, что идея России как Третьего Рима была очень неприятна для османской власти, считающей себя победителем римской идеи как таковой. Непоследовательность “восточных” патриархов в этом вопросе отмечает и такой специалист по церковному праву, как протоиерей Владислав Цыпин: “Если бы Москва на Соборе в Константинополе была официально признана Восточными Патриархами Третьим Римом, то, если следовать логике отцов II Вселенского Собора, а следовать ей было бы естественно, Третьему Риму надлежало бы отвести в диптихе место сразу вслед за Новым Римом, то есть второе, а отнюдь не пятое ”.[9] Более того, если развивать эту мысль до конца, то можно напомнить, что Константинопольcкая Церковь получила второе место в диптихе только потому, что “град оный есть новый Рим” (3 правило II Вселенского Собора), потому что то был “царствующий град”, “град царя и синклита” (28 правило IV Вселенского Собора). Но с 1453 года никакого константинопольского царя и синклита уже нет и не предвидился, а единственный во всем мире православный Царь находился в Москве, следовательно, именно Московского Патриарха имело смысл величать “вселенским” и “первым среди равных”, но националистическое самолюбие не позволило “восточным патриархам” даже обсудить эту тему. И вполне возможно, что даже вопрос об упоминании Московского Патриарха вторым в диптихе после Константинопольского не рассматривался ими именно потому, что они не хотели обсуждать саму логику канонических обоснований диптиха, и подозревали, что после второго места Русская Церковь будет претендовать на первое. В 1593 г. в Константинополе был созван еще один Собор по вопросу об осуждении григорианской пасхалии, где теперь уже участвовало четыре “восточных” патриарха, вместе с Александрийским Патриархом Мелетием Пигасом, и на этом Соборе все патриархи разделили диоцезы пяти патриархий, и подписали грамоту о благословении на Московское Патриаршество. Еще Поместный Собор 1590 г. издал свои деяния, включил Уложенную грамоту Патриарха Иеремии II, и они будут опубликованы в начале главного сборника церковного права, Кормчей книги Патриарха Никона в 1653 г. Утверждение Московского Патриаршества стало историческим апофеозом формирования России как Третьего Рима, и хотя эта формула не превратилась в общепринятый лозунг, вся русская культура развивалась именно в этой идеологической установке, от обретения новой сакрально-политической картины мира до особенностей иконографии и столичного градостроительства.[10]
Невозможно говорить о введении Патриаршества в Русском Царстве, не отметив основополагающее значение самого царя Феодора Иоанновича (правил в 1584-1598 гг.) в этом историческом событии. Разумеется, ведущие роли здесь играли митрополит Московский Дионисий и его постоянный оппонент, царский шурин Борис Годунов,[11] но достаточно учесть, что ни один московский государь до сих пор даже не рассматривал вопрос о введении Патриаршества, и нужно было появление столь благочестивого и смиренного царя, как Феодор Иоаннович, чтобы этот вопрос не только был поставлен, но и решен. Позицию монаршей власти в подобных исторических решениях невозможно переоценить, поскольку именно от нее зависит, как минимум, разрешить или не разрешить повышение политического статуса предстоятеля Поместной Церкви. Если неотъемлемый принцип православной политической идеологии, основанной на византийской традиции, это именно “симфония властей”, впервые сформулированная императором Юстинианом Великим в VI Новелле для Патриарха Епифания (+535), то церковная власть должна иметь возможность открыто влиять на политические процессы в государстве, что предполагает право на несогласие и критику государственной власти с позиций православного христианства. Если двуглавый орел византийско-московского герба означает именно эту симфонию, то достаточно заметить, что его головы равны, хотя и смотрят в разные стороны.[12] В “патриаршем” XVII веке идею полноценной симфонии, предполагающей политическое усиление церковной власти, открыто воплощал на практике Патриарх Никон (правил в 1652-1666 гг.), что потребовало очень серьезных преобразований самой церковной жизни, вызвавшей неизбежное сопротивление многих мирян и клириков, как “справа”, так и “слева”. Впоследствии подобную линию проводил Патриарх Иоаким (правил в 1674-1690 гг.), наладивший удачную “симфонию” с царем Феодором III Алексеевичем (правил в 1676-1682 гг.) и добившийся даже того, что не смог добиться Никон – упразднения Монастырского приказа в 1677 г. Но “симфонические” отношения Царства и Патриаршества вновь оказались в кризисе в эпоху правления Петра I, отменившего само Патриаршество так таковое и учредившего управление Церковью Священным Синодом в 1721 г.
Отсутствие Патриаршества в Российской империи XVIII-нач.XX вв. было существенным символическим изъяном российской церковно-государственной системы, поскольку институт Патриаршества является важнейшей составляющей византийской традиции и самого образа России как Третьего Рима. И можно предположить, что возросший интерес в образованном обществе к истории допетровской Руси и самой Византии, реабилитация самого понятия византизма в конце XIX в. и все те культурные процессы того времени, которые за отсутствием лучшего термина совокупно называются “реакцией”, способствовали идеи восстановления Московского Патриаршества. Однако никто не мог предвидеть, что чаемое восстановление патриаршего престола произойдет не на фоне имперских торжеств по этому грандиозному поводу, а в ситуации революционного взрыва и новой Русской Смуты, когда уже падет сам Третий Рим, а к власть в России захватят не пришлые иноверцы, а собственные богоборцы и на семь десятилетий вперед превратят ее территорию в оплот мирового атеизма. Но обратим внимание, что с православной точки зрения восстановление Патриаршества на Всероссийском Поместном Соборе 1917 г. – это событие в любом случае положительное, равное по значимости его учреждению в 1589 г. Соответственно, для православного самосознания очевидный контраст между этим радостным событием и всеобщей катастрофой может свидетельствовать только о глубоко промыслительном смысле этого события, утешительном для многих верующих и указывающим на особую миссию восстановленного Патриаршества.
Отсутствующее в течение долгих 217 лет Московское Патриаршество возродилось не для того только, чтобы быть важной компонентой византийской церковно-государственной традиции, как это должно было бы быть в нормальной ситуации, а для того, чтобы быть единственным воплощением и символом этой традиции на многие десятилетия вперед.[13] Иными словами, в советскую эпоху Московское Патриаршество фактически было единственным наглядным воплощением катехонической миссии России и институциональной основой православной идентичности русского народа, способствующей сохранению этой идентичности, а следовательно, и самой Россию после неизбежного падения коммунистической власти. Для сравнения: Константинопольский Патриархат не смог выполнять те же самые функции, быть последним воплощением византийского катехонического начала для греческого народа, просто потому, что сам Константинополь и вся Анатолия до сих пор находятся под турецкой властью, а когда в XIX веке национально-освободительное движение греков боролись за независимость, то Фанар никоим образом им в этом деле не помогал, а иногда даже мешал, так что победившим грекам пришлось создавать свою отдельную, Поместную Элладскую Церковь.
В отличие от Фанара, Московское Патриаршество в ХХ веке выполняло несвойственную для Церкви роль “внутренней империи” и “внутреннего катехона”, обеспечивая прямую преемственность с дореволюционной Россией. Не случайно после смерти фактически замученного Патриарха Тихона в 1925 г. Сталин не позволил Русской Церкви созвать Собор для избрания нового Патриарха, но когда в ситуации тотальной войны с гитлеровской Германией у него возникла задача максимально использовать неуничтоженный русский национальный патриотизм, то он сам предложил созвать такой Собор и Московское Патриаршество вновь возродилось как религиозный символ грядущей Великой Победы. И хотя коммунистическая власть сохранится еще почти на пол века, прежний фанатичный большевизм сменится риторикой “советского патриотизма”, а когда эта власть падет, то Московский Патриархат окажется единственной централизованной мировоззренческой структурой на всем пространстве бывшей Российской империи. Именно поэтому в 1990-е и последующие годы Московский Патриархат продолжал и продолжает нести миссию “внутреннего катехона”, выступая крупнейшим социальным институтом, отстаивающим традиционные христианские ценности и напоминающим о православной культурной миссии самой России. Поэтому богословская концепция Третьего Рима, изначально заложенная в обоснование Московского Патриаршества, была не просто ситуативной средневековой идеологемой, а тем философским ключом, который открыл исторический смысл существования Московского Патриаршества на все времена.
[1] См. К.Шмитт Политическая теология. – М., 2000. В.Петрунин Политический исихазм и его традиции в социальной концепции Московского Патриархата. – СПб., 2009.
[2] Особенно в контексте дискуссий о постсекулярной эпохе: Ю.Хабермас Между натурализмом и религией. Философские статьи. – М., 2011. Ч.Тейлор Секулярный век. – М., 2017.
[3] Исключая Иерусалимскую Церковь, которая получила статус Патриархата в V веке не за свои масштабы, а как “праматерь” всех Поместных Церквей.
[4] Важно подчеркнуть, что Патриарх Гермоген мог бы признать этнически польскую династию на московском престоле, что никак не противоречило христианской средневековой политики, где этническое происхождение правящего монарха совершенно не обязательно должно было быть тождественно этносу подданных, тем более, в империи с ее этническим многообразием. Но для этого признания королевич Владислав должен был принять православное христианство, что уже противоречило самому смыслу его католической миссии в России. Поэтому русско-польские войны XVII века были прежде всего религиозными, а не межэтническими.
[5] Представление об Османском государстве как мировой империи, пришедшей на смену империи ромеев, укреплялось в сознании мусульман тем фактом, что по естественным причинам геополитическая экспансия Османского халифата практически по всем направлениям совпадала с пределами Византийской империи в периоды ее наибольшего расцвета.
[6] Понятие единственного в мире легитимного православного царя в византийской традиции отождествлялось с латинским понятием императора, поэтому Иоанн IV в 1547 г. уже мог именоваться императором, а введение этого титула Петром I в 1721 г. ничего сущностно не добавляло к уже существующему статусу царя, но было более понятно Западу.
[7] Уоллес-Хедрилл Дж.-М. Варварский Запад. Раннее Средневековье 400-1000. – СПб., 2002.
[8] Н.В.Синицына Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). – М., 1998. С. 299.
[9] Протоиерей Владислав Цыпин Каноническое право. – М., 2009. С.237.
[10] М.П.Кудрявцев Москва – Третий Рим: Историко-градостроительное исследование. – М., 2008. Б.А.Успенский. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина “Москва – Третий Рим”. // Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2002. С.89-148.
[11] По наблюдению Д.Володихина, “единственным человеком, прямо, самым очевидным образом, заинтересованным во введении патриаршества на Руси, был митрополит Московский Дионисий”, а Борис Годунов “немало сделал для утверждения патриаршества”, “не как инициатор, но как исполнитель”. См. Д.Володихин Царь Федор Иванович. – М., 2011. С.146.
[12] Б.А.Успенский Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). – М., 1998.
[13] Конечно, говорить о полноценном возрождении византийской церковно-государственной традиции в России возможно будет только после восстановления православной монархии.