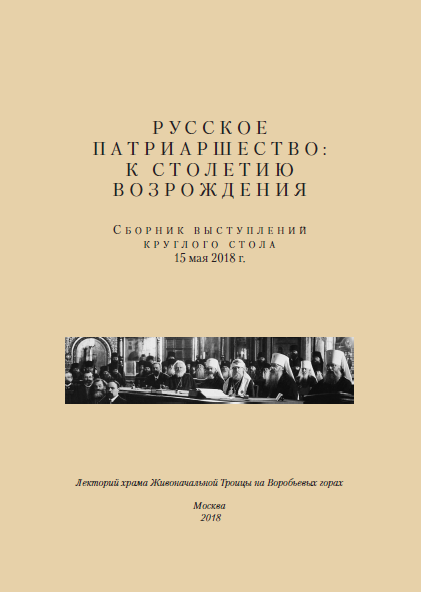Федор Михайлович Достоевский в свое время сыграл в моей жизни очень важную роль. В подростковые годы я не просто стремился обрести единственно истинное мировоззрение, я в буквальном смысле слова выбирал свою идентичность, пытаясь, в частности, основательно определиться в своем отношении к Православию и России. Долгое время я сам себя считал истовым западником и искренне полагал, что в этой странной и нелепой стране надо либо делать настоящую либеральную революцию, либо эмигрировать куда-нибудь в Атлантику. И если я еще выбирал между какими-либо религиозными и идеологическими позициями, то православная версия христианства и преданность этой стране рассматривались в последнюю очередь. Почти никто и почти ничто в моем окружении не способствовало тому, чтобы эта очередь наступила, но лишь некоторые отдельные явления русской культуры все-таки заставляли меня “задуматься в эту сторону”. Дело в том, что на самом деле “либералом” и “западником” я тогда был совершенно надуманным, книжным и архаичным, потому что реальный либерализм и реальный Запад, данные в непосредственных ощущениях (а к 16 годам я уже успел побывать и во Франции, и в Америке), делали все для того, чтобы я чуть более внимательно присмотрелся к их проигравшим альтернативам. Прежде всего, в наступившем либеральном триумфе меня раздражала совершенно ничего не стесняющаяся, всепоглощающая, непреходящая антиэстетическая пошлость и, непосредственно связанная с ней, откровенно антиинтеллектуальная поверхностность, легковесность, несерьезность. И я неизбежно задавался вопросом – неужели именно это и есть тот самый фукуямовский “Конец Истории”? И неужели ради именно такого конца необходимо было разрушение всех империй, растворение всех наций и нивелирование всех культур?
И вот на разительном контрасте со всей этой прогрессивной всепошлостью и оптимистической всеулыбчивостью всё связанное с православной традицией и тысячелетней русской культурой вдруг открывалось как нечто абсолютно серьезное в мире абсолютной несерьезности. Да, именно вот эта глубинная, подлинная, неисчерпаемая серьезность русской культуры, в которой я тогда еще не очень понимал, где закачивается религиозное и начинается секулярное – именно эта реальность заставила меня радикально пересмотреть свои предпочтения, что в конечном счете сущностно изменило не только мое мировоззрение, но и саму идентичность. Но, конечно, речь идет далеко не обо всей русской культуре, а лишь о некоторых уникальных явлениях, преследующих меня все годы моих поисков и заставляющих иначе взглянуть на саму Россию. Перечислю их без какой-либо приоритетности, на пути к главной теме сегодняшнего дня.
Во-первых, это был мир русской средневековой иконы – в первую очередь, иконопись Андрея Рублева, его Ветхозаветная Троица, как икона всех икон. Если само понятие анагогической высоты и глубины имело смысл, то русская икона открывала их как осязаемую реальность. Я всегда завораживался темной, суровой, манящей готикой, но мир русской иконосферы был выше и глубже готики. Во-вторых, это были фильмы Андрея Тарковского, о которых я могу говорить бесконечно, которые немыслимым способом открывали то самое анагогическое измерение в кино: достаточно сказать, что только благодаря «Зеркалу» я начал иначе относиться к русской деревне, да и вообще ко многому из того, что до сих пор казалось непонятным и неприятным. В-третьих, это был бесконечный космос русской религиозной философии и в первую очередь книги отца Павла Флоренского, особенно «Иконостас», ставший для меня в свое время энциклопедией анагогической эстетики. Все написанное русскими религиозными философами мне тогда казалось вершиной человеческой мысли вообще, последней аристократией мыслетворчества, даже слишком прекрасной и благодушной для столь изуродованного мира. И, наконец, в-четвертых, это была та самая русская классическая литература, но далеко не вся, конечно, а сначала – Гоголь, и потом – Достоевский. В принципе, Гоголя было достаточно: «Мертвые души» я воспринимал как русский национальный эпос, как нашу Божественную комедию, а по «Шинели» даже писал какой-то совершенно безумный киносценарий. В Гоголе было абсолютно всё, что я ждал от большой литературы, но в проекции на сегодняшние дни его всегда нужно было несколько осовременивать, как самого Данте или Шекспира, ведь он все-таки принадлежал еще к той классической эпохе дворянских иерархий и социальных дистанций, от которой остались только литературные воспоминания.
И вот именно то, что не хватало Гоголю, по вполне объективным историческим причинам, с избытком появилось в Достоевском – первом, именно современном русском писателе, живущим уже в том новом, урбанизирующемся, атомизирующемся, нигилизирующемся мире, где все прежние иерархии и общины разрушались на глазах, и человек все больше оказывался предоставленным самому себе. Именно это позволило Достоевскому заново открыть человека, как существо абсолютно одинокое и беззащитное, исполненное непреодолимых противоречий, чьи проблемы невозможно решить какими-либо социальными и тем более экономическими преобразованиями. Именно поэтому Достоевский не нуждается в осовременивании, он уже описал современного человека на двести лет вперед, и когда я впервые читал его, то прежде всего, удивлялся тому, насколько он точно, достоверно, детально описывает и меня самого, и половину моих знакомых, да и вообще именно того человека, которого я каждый день вижу перед собой и в самом себе. И только отдельные термины и обороты в обращении напоминают, что это даже не ХХ век.
Первые, самые простые, ближайшие, практические выводы из погружения в Достоевского – равно как в Гоголя, Флоренского, Тарковского, Андрея Рублева – имели далеко идущие последствия: если столь высокий тонус бескомпромиссной серьезности, которую в 90-е годы только с иронией называли “духовностью”, явлен именно русской культурой, если за всеми этими именами твердо стоит Православие и Россия, то как вообще можно быть против Православия и против России? Если Достоевский – русский и православный, значит в Православии и России есть именно тот смысл, которого больше нет нигде.
…Примерно так я не столько даже рассуждал, сколько чувствовал в свои 16-17 лет: каждая страница из романов Достоевского, каждое обсуждение этих страниц, каждая новая случайная или намеренная встреча с Федором Михайловичем все больше приближали меня – сначала к Православию, а потом к России, так что сейчас, post factum, мне даже как-то странно, что могло бы быть иначе. И ведь вполне могло: ведь ни «Братьев Карамазовых», ни «Бесов», ни «Идиота», ни «Преступления и наказания» могло бы не быть, да и самого Достоевского тоже могло бы и не быть. И тогда бы сейчас главный писатель в истории человечества был бы не русский и православный, а кто-нибудь другой, или русский, но не православный, что для России и Православия было бы еще хуже.
Поддержать деятельность Клуба «Катехон»:
№ карты Сбербанка VISA: 4276 3801 2501 4832