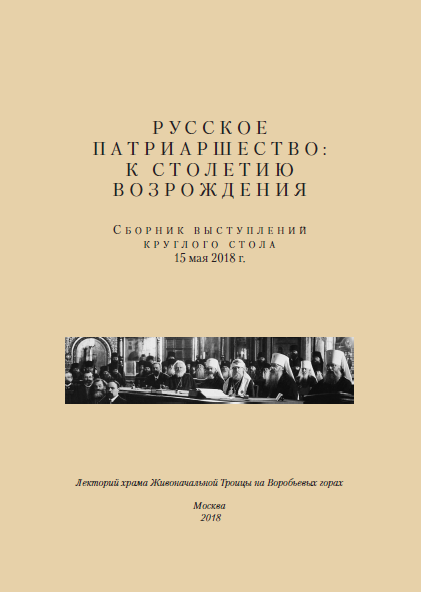Статья опубликована на сайте «Русского Проекта» 29.08.07
В последнее время в среде русских имперцев, которых честнее было бы называть прямо – империалистами, назревает серьезное идеологическое размежевание, неожиданное для них самих, но неизбежное в свете новой политической ситуации. Вполне предсказуем вопрос: если между кем-либо существуют объективные мировоззренческие различия, неужели это сразу не видно? К сожалению, различия и сходства между любыми политическими движениями становятся очевидными в конкретные исторические ситуации, вынуждающие каждое из этих движений самоопределяться, еще раз уточнять свою позицию. Если то или иное движение терпит поражение и притеснения, то оно начинает искать ближайших союзников и на первый план выдвигает все возможные сходства с их идеологической позицией, забывая о различиях. Именно так вели себя патриоты-имперцы в 90-е годы, когда идея России как великой империи была вытеснена в поле радикальной оппозиции и любым великодержавным настроениям было не до разногласий, тогда даже сторонники восстановления СССР и Московского Царства были по одну сторону баррикад и трудно было себе представить, что когда-нибудь противоречия между ними станут более серьезными, чем с господствующими тогда либералами-западниками. Но с начала 2000-х годов имперская позиция стала все более востребована самой властью, а критики имперского наследия, наоборот, оказались в естественной оппозиции, и уже сегодня имперские убеждения стали общим местом для любого респектабельного политика-государственника. В этой новой ситуации, ситуации своей заочной победы, имперская позиция уже не может себе позволить находиться в прежнем эклектично-размытом состоянии и требует фундаментальных уточнений. Актуализируются неизбежные вопросы: зачем нужна империя? Каковы конечные внешние цели этой империи? Каковы необходимые границы этой империи? Какие страны могут быть ее врагами и союзниками? И именно ответы на эти вопросы показали, что имперское движение в России глубоко неоднородно, можно сказать, как сама империя. Одновременно с этим имперская позиция терпит новое испытание на прочность со стороны своих прежних ближайших союзников – радикальных националистов. В реальной политики 90-х годов вообще не было никакого различия между имперцами и националистами, и даже вопрос о таком различии казался этически неуместным. Но вот что делает общая победа “патриотов” – сегодня эти различия обрели политическую силу вплоть до того, что даже раскалывают прежде единые “правые марши” на отдельные митинги и шествия, часто направляемые друг против друга больше, чем против “общего врага”. Да и кто теперь может считаться среди них “общим врагом”? Радикальные имперцы упрекают государство РФ в том, что оно фактически копирует “неорганичную” для России модель национальных демократий Запада, а националисты, наоборот, видят в “ЭрЭфии” воплощение интернациональной евразийской империи.
Таким образом, имперское движение в современной России испытывает жестокое морально-политическое давление с двух сторон, требующее от него окончательного самоопределения, то есть в конечном счете – принципиального внутреннего раскола. С одной стороны, это давление “сверху”, давление общей ситуации предварительной победы – имперская позиция преодолела свою прежнюю маргинальность, она востребована самой властью, ее приглашают к открытой самопрезентации “в прямом эфире”. Эта ситуация требует более четкого, недвусмысленного и адекватного формулирования своих принципов и задач, чтобы быть понятым и принятым, и получить еще больше. С другой стороны, это давление “снизу”, давление националистов, ставших автономной силой, и требующих такого же ясного самоопределения по ключевым для них вопросам. В действительности и то, и другое давление имеет общие причины и, можно сказать, сводятся к одному общему вопросу. Дело в том, что в сегодняшней России как никогда за всю ее историю сложились все возможные условия для формирования русского националистического самосознания, которое является наиболее жестким и прагматичным проявлением национального самосознания в целом. Образование РФ на обломках бывшего Союза до сих пор воспринималось как случайное либерально-западническое воплощение исторической России, которое окончательно подорвет последние остатки национальной идентичности русских. Однако же эта оценка была не очень внимательной. Современная РФ действительно является во многом “случайным” и “либеральным” воплощением исторической России, где вопрос этнокультурной идентичности титульной нации лишается какого-либо идеологического контроля со стороны государства и обнажается в полной мере. Нация впервые с “первобытных” времен оказывается предоставленной самой себе и потому идеологически пустая форма РФ, скроенная по лекалам поствестфальских республик, неизбежно будет наполняться национальным содержанием. В этом смысле РФ действительно является новым “государством-нацией”, национальным государством русских, но только в таких геополитических масштабах и при таком историческом наследии, которые не позволяют России довольствоваться одним этим фактом. Поэтому вопрос национальной идентичности России и русских становится ребром, и без ответа на него ни одна “имперская партия” не сможет одержать полномасштабную победу, а это значит ответить на вопрос об идентичности России на всех уровнях – этническом, геополитическом, цивилизационном, религиозном в конце концов. И именно ответ на этот вопрос не просто порождает раскол в имперском движении, но выявляет в нем изначально две противоположные позиции, которые до сих пор казались неразличимыми – византизм и евразийство.
Со стороны иных идеологических позиций, либеральной, левой или нацистской, византизм и евразийство представляют собой одно и то же направление. И византисты, и евразийцы сходятся в одной общей, непререкаемой идеи Росси как великой исторической сверхдержавы, образующей самостоятельный цивилизационный полюс, наделенной уникальной эсхатологической миссией, исполнению которой посвящена вся жизнь русской нации и всей соответствующей цивилизации. Идея великой Империи – вот что объединяет и тех, и других, поэтому их в совокупности называют одним словом “имперцы”. Однако на этом все сходства заканчиваются и начинаются фундаментальные различия. Каковы исторические корни этой империи? Какую конкретно цивилизацию она должна возглавлять? Какую конкретно эсхатологическую миссию она несет миру?
Среди исследователей русской философии существует устойчивое противопоставление классического рафинированного евразийства современному прагматичному неоевразийству, ставящему акцент на геополитике в противовес всему остальному. Действительно, если бы ранние евразийцы увидели, во что превратилось их наследие стараниями постмодернистских идеологов, они бы просто отреклись от этого учения. Однако нельзя сказать, что между “старым добрым” евразийством и сегодняшним неоевразийством лежит пропасть, равно как между “благородными” идеями немецкой консервативной революции и немецким же нацизмом. Неоевразийство лишь заостряет ту главную, основополагающую идею, из которой исходили первые евразийцы – идею географического детерминизма, доведенную до своих предельных выводов. Традиция геодетерминистской мысли имеет богатую и глубокую историю, и вовсе не лишена определенной правоты. В России эта традиция была представлена знаменитой работой Николая Данилевского «Россия и Европа» (1870), которая задолго до Шпенглера и Тойнби предложила ту самую теорию несоизмеримых “культурно-исторических типов”, которая сегодня называется “цивилизационным методом”. В этой работе Данилевский противопоставляет Россию Европе как “славянский тип” “романо-германскому типу”. В 1875 году фактический основатель идеологии русского византизма Константин Леонтьев пишет книгу «Византизм и славянство» (1875), где византийские начала русской культуры называет более определяющими, чем славянские и критикует всяческий панславизм. Уже после двух революций 1917 года, в 1920 году молодой эмигрант князь Николай Трубецкой издает свою работу «Европа и человечество» (1920), где вообще выносит Россию за пределы европейского мира и называет ее Россией-Евразией. Эти три книги можно считать не просто тремя вехами русской геодетерминистской мысли, но тремя полюсами русского имперского самосознания вообще. Интересно обратить внимание на то, что открыто споря с Данилевским, евразийцы считали именно Леонтьева своим единственным прямым предшественником среди всех русских философов (хотя в реальности таких предшественников было гораздо больше). Но для них он важен не как основатель византизма, а как потенциальный евразиец и это правда – Леонтьев действительно относился к традиционной Азии лучше, чем к секулярной Европе и говорил о том, что нам нужно отойти от петровской России, “отрясая романо-германский прах с наших азиатских подошв”! Более того, в русско-турецких войнах Леонтьев был сторонником сохранения мира с Османской империей, которая якобы лучше сохраняет православную идентичность оккупированных славян, чем если бы они отделились в новые суверенные республики! Именно поэтому, кстати, а не почему либо другому, он не был принят славянофильской общественностью и его голос не был услышан современниками. Позиция Леонтьева была глубоко гетерономной – одной стороной он продолжает православно-византийскую линию русского политического богословия, другой стороной он развивает органицистскую линию русской философии, и именно этой стороной он интересен евразийцам. С византийским же началом у евразийцев отношения, мягко говоря, напряженные. Евразийцы не отрицали определяющее влияние Византии на русскую историю и культуру, но оно не было для них главным и ему они противопоставляли начало “евразийское”. Вот что писал князь Трубецкой: “Мы не византийцы, а русские, и для того, чтобы русская культура была вполне “нашей”, нужно, чтобы она была теснее связана с своеобразным психологическим и этнографическим обликом русской народной стихии. И тут-то надо иметь в виду особые свойства этого облика <…> необходимо, чтобы русская культура не исчерпывалась восточным православием, а выявляла бы те черты своей основной народной стихии, которые способны сплотить в одно культурное целое разнородные племена, исторически связанные с судьбой русского народа”[1] На вопрос о том, что же это за “особые свойства”, которые не должны позволить русской культуре “исчерпаться восточным православием”, основатель евразийства пишет неоднократно: “в древнерусском национальном характере глубоко укоренились туранские этнопсихологические элементы, совершенно чуждые Византии”.[2] Таким образом, если для византизма главное в России – это ее историософское наследие от Нового Рима, то для евразийства главным фактором становится чисто территориальное наследие Орды, которое нужно учитывать чуть ли не более, чем что бы то ни было другое. И вот здесь мы приходим к исходной точке размежевания между византизмом и евразийством: если для византизма главное – это религия, конкретно Православие, то для евразийства главное – это география, конкретно Евразия. И когда неоевразийцы в конце ХХ века свели свое учение к чистой геополитике, восприняв также западную геостратегическую методологию, то в этом не было ничего противоречивого – они лишь только вернулись к мировоззренческой основе своих предшественников – географическому детерминизму. Поэтому современные евразийцы видят в России, прежде всего, конкретное пространство, которое большей своей частью действительно находится в Азии и соприкасается с азиатскими народами и культурами больше, чем с европейскими, и поэтому для них география важнее истории, а этнография важнее религии.
Однако, современное евразийство далеко не ограничивается одними геодетерминистскими выкладками, как, например, их геополитические враги, “атлантисты”, для которых территориальные законы развития государства являются лишь средством для экспансии, а не смыслом существования. Наши же евразийцы вкладывают в понятие Евразии нечто большее, чем чисто географическое значение, наполняя его особыми гуманитарными смыслами, и именно здесь евразийство как геополитическая программа превращается во всеобъемлющую идеологию. Правда, между самими евразийцами нет хоть сколько-нибудь единой конвенции по вопросу о том, что они называют “Евразией” и эта неопределенность позволяет им удачно маневрировать этим словом в том или ином контексте. “Евразия” – это и “степь”, и “лесостепь”, и нечто “между Европой и Азией”, “ни Европа, ни Азия”, и “Европа и Азия вместе”, и огромный континент Евразия, и “все, что не Атлантика”, “не Запад”, “не Европа”, и т.д. Подобная неопределенность низводит эту идеологию до уровня сиюминутной политтехнологии, которая уже оттолкнула от евразийства довольно много ее собственных прежних сторонников, включая даже идеологов – от самого основателя Николая Трубецкого до Льва Карсавина, которые в конце жизни отреклись от идей своей молодости. Но самым известным и показательным примером разрыва с евразийством был случай второго основателя русского византизма, отца Георгия Флоровского, написавшего в 1928 году свою пороговую статью «Евразийский соблазн». Флоровский был активным участником раннего евразийского движения, соавтором двух первых евразийских сборников, но его приход к этому учению имел иные причины, нежели у остальных евразийцев. Сначала Флоровский увидел в евразийстве новое воплощение русского православного мировоззрения, пытающегося сохранить оптимистический государственный пафос в катастрофическую эпоху первых советских лет. Однако он очень скоро увидел, что евразийское движение все более укореняется в своем изначальном органицизме и вся правда евразийских вопросов вырождается в неправду евразийских ответов. Этот разворот Флоровского можно было предвидеть еще в 1921 году, когда в статье “Вечное и преходящее в учении русских славянофилов” он пишет строки, обращенные против самой сути культурно-исторического подхода, а именно – против идеи равенства культур: “Достоинство “культуры” определяется теми ценностями, которые в ней осуществляются; и поскольку есть градация ценностей, может и должна быть “лестница” культур. “Подражательность” в смысле избрания ценностей, воплощаемых в чужеплеменной культуре, – а следовательно усвоение некоторых ее конкретных достижений – не может быть предметом осуждения сама по себе, и порочным подражание становится только тогда, когда оно слепо, т.е. не опирается на сознательное исповедание превосходства по ценности чужого над своим. И обратно, “почвенность” заслуживает одобрения только в том случае, если вдохновляться пафосом высших начал, а не просто верностью “исконным началам”. В основе, таким образом, культурный национализм всецело связан с оценкою начал жизни”. Эта догадка – приговор всему органицизму и обессмысливание всего евразийства: если культуры основаны на ценностях, а ценности не равны, значит и культуры не равны, и никакая “идентичность” и “аутентичность” не могут быть самоценными. Следовательно, ценность той или иной национальной культуры определяется не ее своеобразной географией и вечно напряженной историей, а теми универсальными ценностями, которым она соответствует и несет в себе другим культурам. Византийское начало в русской культуре – это начало универсальное и поскольку Россия стала ведущим наследником Византии, то это начало делает Россию мессианским государством всемирно-исторического значения. Евразийское же начало в русской культуре – начало необязательное и подчиненное, в нем нет никакого особого смысла, оно лишь досталось в наследие от двухсотлетней монгольской оккупации. Об этом и пишет Флоровский в своей работе “Евразийский соблазн”: “В историософическом “развитии по Чингисхану” есть двоякая ложь: и крен в Азию, и еще более опасное сужение русских судеб до пределов государственного строительства. “Монгольское наследство, евразийская государственность” заслоняет в евразийских схемах “византийское наследство, православную государственность”. И при этом евразийцы не чувствуют, что вовсе не один “строй идей” получила Россия от Византии, но богатство Церковной жизни. Это и дар, и задание, и призвание. Этим даром задается и определяется “историческая миссия” России, в перспективах культурного бытия, не евразийской “плотью” и не враждебным лицом”. Напомним, это пишет не сторонний атлантист и западник, а активный участник евразийских проектов 20-х годов и один из самых серьезных историков русской мысли.
Евразийцы не проводят никакого различия между Западом и Европой и поэтому, справедливо отрицая сугубо западные ценности, вместе с ними отрицают всю европейскую идентичность. В стремлении максимально растождествить Россию с Европой, возведенном в самоцель, евразийцы неизбежно отождествляют Россию с Азией, искусственно присваивая ей надуманные “азиатские” черты, забывая о том, что историческое призвание Москвы основано на том, что она стала Третьим Римом, а на “Третьим Сараем”. Поэтому наиболее последовательные евразийцы, ставшие фактически “азиопцами”, упрекают византизм в потенциальном “западничестве”, а Православие – в излишней близости западному христианству, как будто раскол между ними имеет не догматический, а геополитический смысл! Отсюда же все остальные различия между этими идеологиями. Византизм видит рождение исторической России в древнем Киевском княжестве и воспринимает двухсотлетнюю монгольскую оккупацию как глобальную катастрофу русской истории, хотя и по-своему промыслительную. Евразийство начинает историю России с момента так называемого “монгольского совладычества”, а к домонгольскому периоду относится с презрением как к чисто европейскому прецеденту русской культуры. Византизм утверждает православное христианство безальтернативной основой русской культуры, выступает за симфонию сильной Церкви и государства, развивает идеи теократии и клерикализма, видит в деятельности Патриарха Никона необходимый путь к утверждению Московского Патриархата как Вселенского, в равной степени восхищается историческим подвигом Митрополита Антония Храповицкого и Патриарха Сергия Страгородского. Евразийство периодически подчеркивает свою приверженность Православию как религиозной основе русской культуры, но уже так называемая “евразийская культура” уравнивает его с другими религиями Евразии, от рудиментарного язычества (которое евразийцы называют “потенциальным Православием”[3]) до ислама, исторический вызов которого ранние евразийцы сильно недооценивали. В связи с этим евразийство подчиняет Церковь государству в совершенно цезаропапистском духе, сочувственно относится к опыту “опричнины”, различного рода расколам “справа”, начиная со старообрядческого, пытается оправдать большевистский переворот и осуждает сопротивление РПЦЗ. Поэтому же византизм и евразийство по-разному оценивают события 1991 года и становление новой, постсоветской государственности: если евразийская историософия полностью отрицает весь период 90-х годов как либерально-западнический, то византистская рефлексия однозначно приветствует падение коммунистического режима, но осуждает распад геополитического пространства СССР как наследника Российской Империи.
Важно обратить внимание на различие между византизмом и евразийством в контексте современных дискуссий о будущем российской “суверенной демократии”. На первый взгляд, евразийство в большей степени апеллирует к органическим началам русской государственности, “крови” и “почве”, “нации” и “демократии”, так что на фоне византистского “элитаризма” евразийская программа выглядит более левой и народнической. В целом это действительно так: если византизм опирается на универсальные принципы политической теологии, то евразийство исходит из партикулярных, естественных потребностей этнокультурного “месторазвития”, имманентных аутентичной природе русского (“евразийского”?) народа. Однако и в этой, наиболее близкой себе политической сфере, евразийство дает фатальный сбой. Дело в том, что современный русский национализм в большинстве своих проявлениях не только чужд, но прямо враждебен идеям какой-либо “евразийской идентичности”, ощущая свое единство с “белой”, “северной”, европейской цивилизацией и никакие идеологии и политтехнологии не могут изменить этот реальный, действительно органический факт. Кроме этого, идеи национальной демократии, неизбежно обретающие популярность в современной России, прямо расходятся с симпатиями к какой-либо восточной деспотии, что окончательно хоронит любые претензии евразийства на выражение подлинных чаяний большинства русского народа. Ведь если византизм, основанный на христианской этике, воспринимает сильную власть как средство для церковно-имперской экспансии, то для евразийства эта власть представляется самоценностью и в оправдание ее беспредельного господства евразийцы обращаются к любым мировоззренческим системам, вплоть до откровенного язычества. Наконец, византизм и евразийство по-разному относятся к самой задаче необходимой модернизации российской политической и экономической системы. Если византизм осознает необходимость модернизации и сверхмодернизации государства как постоянной задачи, то евразийство воспринимает любые усилия в этом направлении как вынужденную неприятность, опасную еще большим отступлением от “традиционного общества”, под которым евразийцы понимают статичный образ аграрно-архаического состояния. Впрочем, если хотя бы поверхностно ознакомиться с основными призывами современного, “консервативно-революционного” неоевразийства, то откроется куда более экстравагантная, мягко говоря, программа этого направления.
В итоге сложившаяся историческая ситуация требует от имперского движения в России окончательного внутреннего размежевания по линии “византизм – евразийство”. Наконец настал момент, когда обе линии не должны больше молчаливо терпеть существование друг друга в некогда общем движении, ибо исчезли те внешние причины, которые порождали иллюзию их единства. Либо Россия – христианская страна, либо “многоконфессиональная” страна; либо Россия – страна конкретной европейской идентичности, либо абстрактной “евразийской идентичности”; либо Россия начинается с Киевского княжества, либо с монгольской Орды; либо Москва – Третий Рим, либо Третий Сарай. Либо мы отрицаем Запад за его отступление от универсальных христианских ценностей и переживаем это как внутреннюю боль, либо нет этих ценностей и мы отрицаем Запад сам по себе. Третьего не дано. Tertium non datur. Мы слишком долго делали вид, что выступаем за одну и ту же Империю.
[1] Н.Трубецкой «Верхи и низы русской культуры (этническая основа русской культуры)» // Н.Трубецкой История. Культура. Язык – М.,1995. С.139-140.
[2] Н.Трубецкой «О туранском элементе в русской культуре» – Там же. С.157.
[3] «Евразийство. Опыт систематического изложения». // Пути Евразии – М., 1992. С.363.
Третий пункт этого коллективного манифеста евразийцев 1926 года называется «Православие как основа идеологии», но именно там вместе с однозначными заявлениями в пользу христианства излагаются весьма специфические представления о его связи с другими религиями на грани ереси.
Статья опубликована на сайте «Русского Проекта» 29.08.07
_____________________________________________
Поддержать автора: № карты Сбербанка 4276 3801 2501 4832