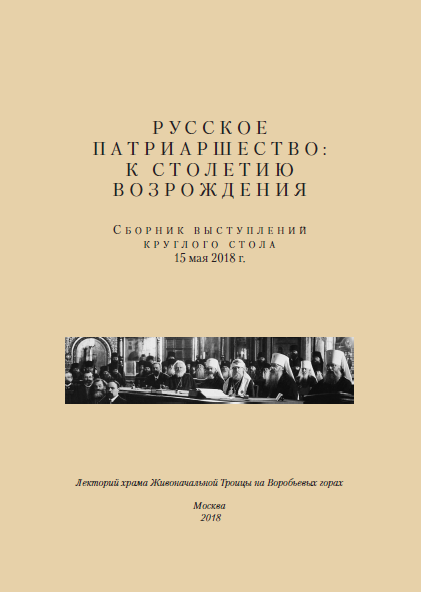Статья опубликована в альманахе «Северный Катехон» №2 (2007). С. 128-141.
1. Ужас Модерна.
Двухтысячные годы русской истории так же отличаются от девяностых, как весь XXI век от XX века. Для христианского сознания любое “тысячелетие”, “столетие” и даже любая декада – не случайны, а всегда исполнены конкретного смысла. При этом, внешние события, действительно сменяющие глобальные хронологические циклы, могут смещаться достаточно далеко, и, как правило, вперед. Здесь нет ничего противоречивого: онтологически эра Нового Завета началась с Рождества Христова, но для самого человечества она стала ощутимой только с момента Пятидесятницы, то есть образования Церкви и ее активного расширения. Это в масштабах века. А в масштабах тысячелетия реальное воздействие Христианства ощущается только с IV века, откуда прилично отсчитывать “Средневековье”, крайним веком которого позволительно считать XVI век. Однако если история мира – это, в конечном счете, по Шпенглеру, история войн, то реальный конец Средних Веков и начало Нового Времени приходится на 1618 год, начало великой “Тридцатилетней войны”, идеальной гоббсовской “войны всех против всех”, закончившейся только в середине века, реальной революцией Вестфальского мира 1648 года. При внимательном “созерцании всемирной истории” (Карл Шмитт) в каждом веке мы можем обнаружить свою хронологическую триаду, свою завязку, свою кульминацию и свою развязку, отмечающие основные пороги столетия как единого целого исторического “эона”. Каким же событием, в таком случае, отмечен XXI век? Какое событие сравнится с началом XIX-го “века прогресса и реакции” на Венском конгрессе 1815 года, или началом XX-го “века масс” от Версальского договора 1919 года? Возможно, это событие еще не наступило, но если оно уже произошло, то это, безусловно, 11 сентября 2001 года. Если в конце ХХ века, в 1991 году рухнул Советский Союз, то ровно через десять лет, с началом XXI-го века рухнули две башни Нью-Йорка – “Америка” и “Европа”. Совершенно независимо от того, кто в этом виноват – исламские террористы или сами американцы – сам факт физического поражения Американского Порядка в его эпицентре указывает только – и только – на реальную уязвимость США, этого “эсхатологического катехона” всей либеральной цивилизации. Невозможно быть патриотом какого-либо государства и желать ему подобного позора. И как бы новая американская власть не пыталась обернуть это поражение в победу, оно навсегда останется главным вдохновляющим символом любой антиамериканской фронды. Однако это событие служит лишь наиболее ярким, знаковым выражением того глубинного исторического процесса, который откроет нам подлинное лицо XXI века. В конце концов, для русских уже было свое “11 сентября” – когда 9 и 13 сентября 1999 года в Москве были взорваны жилые дома, ровно за два года до катастрофы в Нью-Йорке, так что атмосфера реальной и постоянной угрозы человеческой жизни в столице России наступила порядком раньше, чем в торговой столице США. Что изменилось после этого? Или ничего не изменилось? Наступил XXI век.
Если максимально обобщить сущность современной нам эпохи, понять ее принципиальное отличие от предыдущих эпох, то нет никаких альтернатив тому единственному определению Anno Domini, которое выражено в емком термине “Постмодерн”. Мы можем сказать, что это определение старо и неактуально, но тогда нам придется придумать новое определение, внятно объяснить, что “Постмодерн кончился”, но до тех пор, пока наше отрицание лишено аргументов, мы всегда будем обречены смиренно сознавать свою причастность этому явлению. Сами апологеты Постмодерна, в присущем им действительно “постмодернистском” стремлении множить сущности больше надобности очень долго и с необязательными околицами объясняют смысл своей позиции, так что разговор о глобальной истории неожиданно переходит на обсуждение локальных литературных или музыкальных эпифеноменов. Это понятно в логике Постмодерна, который страшно боится и чурается любой редукции как гаранта минимальной интеллектуальной ответственности. Поэтому совершенно бесперспективно определять Постмодерн исходя из него самого, для этого необходимо встать над Постмодерном, схватить его как эпизод мировой истории, sub specie aeternitatis. И нет более прямого пути для решения этой задачи, чем этимологический путь, да и само слово этому способствует: “Постмодерн” – это всего-навсего Пост-Модерн, глобальная историческая ситуация после Модерна. Этого определения достаточно, но оно было бы бессмысленным, если мы не знаем – что такое сам “Модерн”, а без этого знания вообще невозможно никакое обсуждение современной истории как таковой.
“Модерном” или “Новым Временем” назвали свою эпоху интеллектуалы XVI-XVII веков, у немецкого историка Кристофора Целлария можно встретить банальное по своей структуре, но оригинальное по содержанию деление европейской истории (естественно, отождествленное с историей человечества вообще) на три этапа – “Античность – Средневековье – Новое Время”. Таким образом, именно авторы XVI-XVII века назвали свое время “Новым”, и в этом плане они уже знали, что живут в “новое время” в противоположность людям эпохи Античности или Средних Веков, которые совсем иначе именовали свои времена. Новизна Нового Времени, вся сущность Модерна сводилась, в конечном счете, к тому, что в наше время наиболее точно выражено формулой “освобождение (“эмансипация”) человека от комплексов сакрально-традиционного сознания” или одним термином – “секуляризация”. Собственно, никаких иных смыслов Модерн в себе не несет, а одного этого смысла настолько достаточно, что с XVII века возникает не просто новая эпоха, новая, глобальная парадигма человеческой цивилизации, сущностно отличная от всей предыдущей истории, которая задним числом автоматически укладывается в так называемую парадигму “Традиции”. Конечно, очень сложно дать общее, конвенциальное как для сторонников, так и для противников Модерна определение Традиции, чтобы столь же точно определить, от чего же на самом деле отказался Модерн. “Освобождение от комплексов сакрально-традиционного сознания” ничего не говорит нам о том, если мы не знаем, в чем же состоит это “сакрально-традиционное сознание”, а в этом месте возникает ровно столько противоречий, сколько существует самих “сакральных традиций” и исследующих их религиоведческих школ. Но, так или иначе, нам придется решить и эту проблему: сакрально-традиционное сознание – это сознание, ориентированное на приобщение к объективно-онтологическим ценностям, признанным в качестве таковых. Разумеется, признанные в качестве таковых, эти ценности ставятся выше самого человека в общей онтологической иерархии Бытия. Разумеется, само приобщение к этим ценностям может проходить в самой разной форме и известная нам форма ритуализированного служения – лишь одна из них, но она наиболее адекватна для нормального функционирования социального целого. Это приобщение может выражаться также в форме асоциального бунта и покорения этих ценностей, но, при этом, сохраняется принципиальное условие сакрально-традиционного сознания – само признание этих ценностей и, как следствие, стремление к ним приобщиться. О природе этих ценностей речи не идет, во всяком случае, пока не идет. Это может быть безличностный Абсолют, а может быть гнилой пенек. Человек Модерна отверг и то, и другое, у него больше нет объективно-онтологической ценности вне него самого, он сам – “мера всех вещей” (Протагор). Модерн – это Античность, в которой победили только софисты. Равно как Просвещение – это Ренессанс, возродивший только софистику. Отказ от Абсолютного в пользу Относительного – вот подлинный пафос Модерна, вот его подлинный ужас, который испытали впоследствии все его противники. Ужас Модерна абсолютен именно потому, что сам Модерн отрицает все Абсолютное: люди могут быть от природы добры (Руссо) или злы (Гоббс), но им в любом случае требуется “общественный договор”, потому что никаких априорных, до-конвенциональных, общих ценностей у них нет: секулярный рай на Земле – это когда всем всего хватает, но никто никому не мешает; любая претензия на монополию Истины – вне Закона, основу которого составляет аксиома отсутствия Истины как таковой. Ужас Модерна – это ужас пустоты, в которой все разрешено, но ничего не возможно.
2. Кризис Модерна и двенадцать историософских суперпозиций.
Для того, чтобы понять, каким образом был возможен кризис Модерна, необходимо вернуться к его исторической основе – тем первичным процессам секуляризации, которые происходили в Западной Европе XVI-XVII веков. На самом деле, между этими веками проходит очень важная историософская граница, не сразу заметная как многим противникам, так и многим сторонникам так называемого “прогресса”. Это граница между тем, что с легкой руки последних было названо “Ренессансом” и “Просвещением”. Движение “Ренессанса”, а если быть точным – движение итальянских “гуманистов” и их последователей по всей Европе, разорвало с теоцентрической традицией Христианства, тысячелетнее господство которой ими было пренебрежительно названо “средневековьем” (как бы “межвременьем”, “смутными”, “темными” веками) между “золотым веком” Античности и их собственной эпохой, названной ими “Новым Временем”. В антитезу средневековому теоцентризму гуманисты выдвинули свой антропоцентризм – и именно его аналоги и корни они искали в до-христианской Античности. В этом смысле весь “Ренессанс” есть ничто иное, как возрождение антропоцентрических начал античной культуры, в соответствующей, усеченной версии XIV-XVI веков. Здесь еще нет секулярности, здесь есть только борьба двух разных, равно претендующих на сакральность традиций – библейского теоцентризма и языческого антропоцентризма. В центре ренессансной идеологии стоит “человек-титан”, “человек идеальный” во всех своих проявлениях. Экстремальными выражениями такого “сверхчеловека” на одном полюсе может быть Христос-Пантократор Микеланджело, а на другом – идеальный политик, “принцепс” Макиавелли. Да, это отказ от Традиции, но именно христианской традиции, – да, это превращение человека в “меру всех вещей”, но это именно сверх-человек (и любые аллюзии из Ницше здесь совершенно оправданны)…
Однако, в определенный момент происходит неявная инверсия этого идеала: сам принцип антропоцентризма остается, но на место гностического максимализма “Ренессанса” приходит новый, агностический минимализм “Просвещения”. Из культуры элиминируется принцип преодоления как сущности человеческой натуры в парадигме Традиции: на месте аляповато-пышного романского Пантократора оказывается пустая, голая стена протестантской кирхи; на место авантюрного макиавеллиевского “принцепса” приходит безликая функция гоббсковского “суверена”. На религиозном уровне это сопровождается победой аскетичного “нордического” кальвинизма над расслабленным “средиземноморским” католичеством; геополитики укажут переломное событие – победу английского флота над “непобедимой” испанской армадой в 1588 году. В этом внутреннем расколе новоевропейских гуманистов коренится первое, осевое противоречие всего Проекта Модерна – внутреннее противоречие конечного идеала – самого Человека. Человек как таковой, абстрактный человек, не может быть идеалом всего человечества, потому что любая конвенция по вопросу о его природе, то есть о его естественных потребностях и его сверхъестественном назначении, никогда не будет удовлетворять абсолютное большинство самих людей. У человечества очень разное представление о самом себе: будучи существом относительным и переменчивым, человек не может быть общепризнанной точкой отсчета, той самой “мерой всех вещей”. Следовательно, никакой антропоцентризм как единое универсальное мировоззрение невозможно.
“Просвещение” – это “Ренессанс” без последних рудиментов Традиции, это Модерн в его чистом, кристальном виде. Правда, в “Просвещении” сохранился нервный пафос “Ренессанса”, взывающий к преодолению, к революции, к гностическому “восстанию ангелов”, без которого само Просвещение было бы невозможным, но оно стесняется этой “родовой травмы”, скрывает свою “преступную природу”. Подлинная эмансипация человека, то есть его реальная секуляризация, невозможна без опыта внутреннего онтологического разрыва, фактически воспроизводящего, но оборачивающего вспять опыт нормальной сакрально-традиционной инициации. Эмансипация – это инициация в свое собственное “ничто”, в свою безосновательную, негативную свободу, свободу без содержания и смысла, поэтому подлинная сущность Модерна – это нигилизм (все порочные тупики которого ясно представлены в мировоззренческой круговерти того же Ницше). Все внутреннее напряжение этого нигилизма сводится к одной-единственной дилемме: если человек – это “мера всех вещей”, то нужно создать новый мир, полностью подчиненный этой мере, но, если мы будем создавать этот новый мир, то мы можем помешать жизни самого человека здесь и сейчас. Как только мы хотим сгладить это противоречие, как только мы начинаем проникать внутрь этой проблемы, то мы сразу пытаемся “более точно” определить и выделить различные аспекты человеческой природы, отделить первичные и вторичные его потребности и задачи, не замечая по ходу дела, что мы разрываем человека на части, создаем его очередной, идеально-типический образ, и только выдвигаем свою “антропологическую утопию”. Поскольку эта перспектива совершенно неизбежна, она не имеет моральной оценки, это – нормально; как мы говорили выше – у человечества слишком разное представление о самом себе.
Основное антропологическое противоречие Модерна как проекта глобальной человеческой эмансипации развернулось в бесконечном ряду самых неожиданных конфликтов: реформистов и революционеров, рыночников и социалистов, расистов и космополитов, правых либералов и левых либералов и т.п. И уже когда власть во Франции захватили якобинцы, и по улицам Парижа потекла кровь от непрестанно работающей “гильотины революции”, а на центральной площади воинствующий атеист Робеспьер водрузил статую “религии Разумного существа”, вот тогда уже стало ясно, что в Модерне вызревает серьезный кризис, давший себя знать в феномене Наполеона и его первой секулярной империи. Можно смело утверждать, что кризис Модерна как метаисторической парадигмы восходит к его основе, а не к следствиям середины XX века. Просто после трагедии Второй Мировой войны историк Арнольд Тойнби замечает, что эра Модерна как самодовлеющего и тотального проекта кончилась, и в 1947 году вводит понятие “Пост-модерн”, а после комедии “студенческих революций” 1968 года журналист Лесли Фидлер вновь провозглашает это понятие на страницах журнала «Плейбой», что, надо заметить, весьма показательно. Так возникает представление о новой трилогии мировой истории, качественно превосходящей триаду Кристофера Целлария. Уже не только западная, но вся мировая история разбивается на три метаисторические “волны”: парадигма Традиции – парадигма Модерна – парадигма Постмодерна. Слово “парадигма” здесь очень кстати, потому что никаких четких границ между этими “волнами” нет, они наслаиваются одна за другой, и никогда не исчезают бесследно, что позволяет новым историкам вести по этому поводу бесконечные споры.
Все споры о Постмодерне, в конечном счете, сводятся к вопросу о его отношении к Модерну, и по этому поводу существует две, прямо противоположные позиции. Первая позиция утверждает, что Постмодерн – это определенная, исторически обусловленная мутация самого Модерна: “проект Просвещения” оказался в ситуации внутреннего и внешнего кризиса, и требует качественной трансформации, адаптации к новым условиям, пусть даже созданным им же самим. В этом случае Постмодерн – это Модерн, ложно смягчивший свой категоричный пафос, выступающий от имени ложно-плюралистического сознания. Эту позицию разделяет теоретик “постистории” Жан Бодрийяр, а также многие левые и оптимистически настроенные либералы типа идеолога “конца истории” Фрэнсиса Фукуямы, который, правда, после 11 сентября 2001 года несколько поубавил свой оптимизм. Разумеется, именно так воспринимают Постмодерн большинство “старых правых” и даже “новых правых” реакционеров-консерваторов. Вторая позиция утверждает, что Постмодерн – это уже не-Модерн хотя бы потому, что частица “пост” несет в себе определенное отрицание, да и зачем называть “постмодерном” то, что является “модерном”? Следовательно, Постмодерн – это именно отрицание Модерна, которое начинается с критики его тоталитарной категоричности, а закончится восстанием против его сущностных основ – самого секулярного проекта. Таким образом, Постмодерн – это неявная, но набирающая силу “консервативная революция”, революция Традиции против Модерна. Больше всех по этому поводу переживает ортодоксальный либерал Юрген Хабермас, видя в ситуативных постмодернистских альянсах правых и левых радикалов опасность для либерального центра. Наконец, можно представить себе некую третью позицию, утверждающую, что Постмодерн – это автономная, самозамкнутая историческая парадигма, являющая собой абсолютно новый, “третий путь”, равно альтернативный как Традиции, так и Модерну.
С существенной долей очевидности можно констатировать тот факт, что Традиция, Модерн и Постмодерн, так или иначе, образуют на сегодняшний момент три метаидеологических и метаисториософических парадигмы человеческого мировоззрения, и можно найти более или менее чистых, более или менее сознательных выразителей каждой из этих трех парадигм. Да, с точки зрения традиционалистов и прогрессистов вся история человечества сводится к противостоянию Традиции и Модерна, но для многих современных интеллектуалов к этой враждующей паре подключается третий самостоятельный участник – Постмодерн. И ситуация для них осложняется тем, что как бы “апологеты Традиции” и “апологеты Модерна” ни относились к Постмодерну, они уже в нем находятся и действовать приходится по его правилам. Однако, на этом количество возможных мета-историософических позиций не заканчивается: каждая из этих трех суперпозиций образует себе пару в противостоянии той суперпозиции, которую считает противоположной себе или меняет “союзников” в зависимости от ситуации. В итоге образуется двенадцать (!) отдельных метаисторисософских суперпозиций, которые определяют все основные типы культурологического мышления на данном этапе человеческой истории.
1) Самозамкнутая Традиция.
В чистом виде человек традиционного сознания в наше время, особенно в вестернизированной части мира встречается крайне редко, здесь речь может идти только об отдельных архаических анклавах, где сознание людей еще не затронуто современной цивилизацией. С определенной натяжкой можно сказать, что в парадигме Традиции пребывает много современных людей, которые сознательно пришли к тому или иному типу сакрально-традиционного мировоззрения и погружаются в него по мере отказа от секулярных отношений.
2) Традиция вместе с Модерном и Постмодерном против каждого из них.
Это позиция последовательного и активного традиционалиста, который не чурается каждой из этих парадигм для того, чтобы бороться с ними же: с Модерном против Постмодерна, и с Постмодерном против Модерна. Очевидно, это требует от традиционалиста выхода за пределы своего сознания и открытое постижение иных типов мышления, а также особо широкого культурологического кругозора.
3) Традиция вместе с Модерном против Постмодерна.
Как правило, эта позиция свойственна многим “старым правым” консерваторам, принявшим определенные принципы секулярного общества и готовым отстаивать “секулярный порядок” против “сакрального хаоса”. Знакомая позиция многих западных “палеоконов”, обличающих современное общество, но не видящих глубоких исторических причин его возникновения.
4) Традиция вместе с Постмодерном против Модерна.
Позиция большинства современных “консервативных революционеров” и так называемых “постмодернистов справа”. Опасность этого пути заключается в невнимательном отношении к той принципиальной границе, которая разделяет Традицию и Постмодерн, в подмене подлинной сакральности постмодернистским суррогатом.
5) Самозамкнутый Модерн.
Найти аутентичных сторонников Модерна, последовательно отрицающих любые формы взаимодействия как с Традицией, так и с Модерном, на сегодняшний момент не легче, чем законченных традиционалистов. В основном, встречаются среди старой и не-творчески ориентированной секулярной интеллигенции.
6) Модерн вместе с Традицией и Постмодерном против каждого из них.
Эта позиция наиболее распространена среди интеллектуалов старого типа (“шестидесятников”), пытающихся отстаивать идеалы “Просвещения”, находя в альтернативных типах сознания удобные аргументы против других типов сознания.
7) Модерн вместе с Традицией против Постмодерна.
Откровенно обманчивая позиция, чаще всего использующая этическую составляющую традиционного сознания против явного морального нигилизма постмодернистов.
8) Модерн вместе с Постмодерном против Традиции.
До сих пор самая распространенная позиция среди современных секулярных интеллектуалов, воспринимает Постмодерн как интересную, но не-необходимую производную от Модерна.
9) Самозамкнутый Постмодерн.
Пожалуй, это самая маргинальная из всех возможных позиций, однако можно сказать, что она может быть свойственна тому типу новейших интеллектуалов, которые полностью ограничили свою жизнедеятельность виртуально-игровой (в широком смысле) сферой, и даже вопрос о необходимости взаимодействия с иными типами сознания у них не возникает.
10) Постмодерн вместе с Традицией и Модерном против каждого из них.
Бесконечная гибкость постмодернистского мышления позволяет ему использовать язык Традиции и Модерна в несравнимо большей степени, чем самим традиционалистам и модернистам изучать друг друга. Собственно, освоение любых альтернативных интеллектуальных практик и сознательная мимикрия составляют основу постмодернистского поведения как такового.
11) Постмодерн вместе с Традицией против Модерна.
Постмодернисты легко узнают в архаическом сознании аналоги своих гносеологических установок, вся литература постмодернизма насыщена апелляциями к архаическому мышлению, и в полемике против Модерна постмодернисты часто заходят к нему “с другого конца”.
12) Постмодерн вместе с Модерном против Традиции.
В этой позиции постмодернисты воспринимают интеллектуальные ресурсы Модерна как вполне пригодные для критики Пре-модерна, то есть Традиции, хотя они и утратили свою историческую адекватность.
Все эти двенадцать суперпозиций следует ясно различать, потому что они всегда точно
объясняют подлинную концептуальную мотивацию того или иного автора, выявляют саму природу его мышления. Конечно, нужно всегда помнить, что в основе этих суперпозиций лежит определенная рефлексия исторического вызова Модерна и нового исторического вызова Постмодерна, особое мета-историософское понимание социальной реальности и сознательное отстаивание той или иной парадигмы. Наша позиция достаточно очевидна: с Модерном против Постмодерна и с Постмодерном против Модерна. Однако только сейчас эта позиция представляется нам наиболее актуальной, ибо до сих пор традиционалистское движение выбирало для себя только одного из этих двух противников.
3. О какой “Традиции” идет речь?
Представление о том, что ситуация Постмодерна предоставила силам Традиции новую, неожиданную возможность совершить свой глобальный, эсхатологический реванш за счет уравнения в правах секулярного и традиционного сознания сегодня, в начале XXI века, стало уже общепринятой банальностью, неприятие которой отделяет “старых правых” от “новых правых”. Сегодня уже занудный в своей приверженности стандартам “классического” Модерна политик или ученый выглядит столь же неадекватно, как выглядел бы какой-нибудь средневековый алхимик в Академии наук XIX века, и наоборот, сегодня же интерес к той же алхимии, по меньшей мере, в контексте философии науки стал совершенно беспрецедентным. Утверждение Умберто Эко о том, что “Новое Средневековье уже наступило” утратило всякую провокационность и воспринимается сегодня не более оригинально, чем тезис какого-нибудь Патрика Бьюкенена о “смерти Запада”. В конце концов, не надо забывать, что за три поколения до этого уже говорили и о “закате Запада” (Шпенглер), и о “Новом Средневековье” (Бердяев)… Однако, в этой специфической исторической ситуации, порождающей то ли умиротворенную успокоенность, то ли восторженную эйфорию в среде рефлексирующих “традиционалистов”, почувствовавших себя вдруг “победителями”, заключается определенная опасность, прежде всего, опасность утратить “презренное” чувство реальности и замкнуться в сугубо интеллектуальной игре, где всем хорошо, так же “хорошо”, как всем хорошо в “открытом обществе” Карла Поппера. Для того, чтобы избежать этой опасности, иногда полезно интеллектуалам посмотреть на себя со стороны, и задать строгий вопрос – а что, собственно, конкретно изменилось с наступлением Постмодерна? Что конкретно заставляет нас, традиционалистов, вдруг чувствовать себя победителями или хотя бы побеждающими? Когда и где проходило то сражение против Модерна, за которое мы друг другу раздаем ордена и где те трофеи, которые полагаются после любой победы? Этот сюжет можно сравнить с падением Советского Союза, свершившимся под ударом каких угодно сил, но только не правых советских диссидентов, оказавшихся совершенно не причем, хотя кое-кто из них потом строил из себя триумфатора. Хотелось бы избежать такого комического положения. Советский Союз рухнул почти по той же схеме, что и Модерн – в результате собственной деградации и под ударом внешних сил, а правые диссиденты были лишь пассивными наблюдателями. Равным образом и вся цивилизация Модерна подорвалась на собственных противоречиях и при столкновении с остальным, не-секулярным миром: в этом смысле падение СССР было лишь продолжением общего падения Модерна, ибо советский проект, в отличие от США, даже не пытался адаптироваться в постмодерные условия. И как падение совдепии было не нашей, а чужой победой, так и падение Модерна прошло без всякого нашего участия, ибо мы – правые, консерваторы, традиционалисты – были здесь такими же пассивными жертвами и наблюдателями, счастливые ныне своим неожиданным освобождением. Но почему мы тогда считаем себя победителями? Почему мы считаем, что эра Постмодерна наступила специально для нас, что именно наша Традиция обречена на неизбежное доминирование в “новом дивном” мире? По этому вопросу возможно периодически возникающее возражение: “нашей Традиции вовсе и не нужно никакое доминирование, нам достаточно того пространства свободы, которое нам уже досталось”. Именно здесь начинается самое главное прояснение всех смыслов, то самое необходимое трезвение, наступающие при взгляде на себя со стороны: падение Модерна должно увенчаться однозначной победой Традиции, ее недвусмысленным доминированием, явленным как в науке, так и в политике. В противном случае мы можем говорить о падении Модерна как самодовлеющей тоталитарной системы, но мы не можем говорить о победе Традиции – и именно эта неопределенная ситуация и называется “Постмодерном”. Эта ситуация в точности была воспроизведена в 90-х годах ХХ века в России, когда левая доминанта была полностью подорвана, но правая еще не наступила.
Итак, серьезно говорить о “победе” можно только тогда, когда на лицо положение доминирования. Некоторые “традиционалисты” могут сказать по этому поводу, что доминирование их не интересует, что позиция власти необязательна для их “традиции”, более того, что доминирование вообще не имеет никакого отношения к традиционализму, а является как раз свойством мировосприятия Модерна с его унификацией и категоричностью. Насколько это оправдано? Исходя из этой логики традиционное сознание должно довольствоваться тем, что ему дали право на существование, отвели положенное кем-то пространство, может быть даже, очень комфортное пространство, а на большее оно и не претендует. В этой точке, наконец, наступил момент прямо спросить, а что мы, собственно, называем “традиционным сознанием”? Равным образом, что мы вообще называем “Традицией”, “силами Традиции”, “традиционализмом”, в конце концов?
Как мы уже оговаривали в предыдущей части, сакрально-традиционное сознание – это сознание, ориентированное на приобщение к объективно-онтологическим ценностям, признанным в качестве таковых. Соответственно, в Модерне отрицается сам факт существования таких ценностей и единственной “объективной” ценностью в этом мире становится субъективная ценность самого человека как единственной инстанции, потребляющей, осмысляющей и оценивающей этот мир. Оппозиция Традиции и Модерна, таким образом, предстает в качестве оппозиции двух антропологических идеалов – служения (жертвенности) и эксплуатации (потребления), но этой оппозиции недостаточно для описания всех мировоззренческих различий Традиции и Модерна по очень простой причине – потому что Модерн более-менее един и однороден, а “традиций” много и они бывают очень неоднородными. Следовательно, возникает неизбежный вопрос – о какой все-таки “традиции” идет речь? Современный “традиционалист” скажет, что это не имеет значения, что речь идет о самом принципе Традиции, ссылаясь на попытки выявить общие структурно-смысловые основания в различных религиозных культах, которые предпринимались в ХХ веке (Генон, Элиаде, Юнг и др.), или даже на еще более отчаянные попытки найти ту самую, “интегральную” или “примордиальную традицию”, осколки которой мы видим во всех сегодняшних культах, и которые закончились лишь созданием очередной, новой “традицией” (Штайнер и далее по всему списку). В этом ответе коренится абсолютно гуманистическое – и в этом смысле секулярное – убеждение в том, что то, что объединяет все возможные религии, существеннее, чем то, что их разъединяет. Этот откровенный гиперэкуменизм возможен лишь при полном игнорировании догматической специфики каждой традиции, в нашем случае – Православного Христианства.
4. Христианская мистика Личности и языческая магия Безличного
Проблема заключается в том, что до сих пор в европейской философии понятие “сакральной традиции” практически тождественно понятию “язычества” и совершенно не учитывает библейско-христианскую парадигму. Исторические корни этого “недоразумения” можно найти в самом зарождении эпохи Модерна, в так называемом Ренессансе, когда основной, ведущей интенцией новой философии стало преодоление “средневекового” христианского теоцентризма и возрождение “античного” языческого космоцентризма в его антропоцентрическом изводе. В связи с этим возникло неизбежное представление, что “античное” язычество, а, тем более, до-античное, “архаическое” язычество – “традиционнее” Христианства, а, следовательно, имеет больше прав выступать от имени сакрально-традиционного сознания вообще. В свою очередь, само Христианство стало восприниматься как более “прогрессивный” этап развития человечества на пути к Модерну, как “модерная” версия Традиции. В итоге “сакральное” в язычестве стало отождествляться с “сакральным” в Христианстве, и, наконец, стало доминировать именно языческое понимание “сакрального”.
На первый взгляд, понимание “сакрального” едино во всех религиозных традициях: если сакрально-традиционное сознание – это сознание, ориентированное на приобщение к объективно-онтологическим ценностям, признанным в качестве таковых, то само “сакральное” – это основное качество этих ценностей. Однако, необходимые условия этого “приобщения” (инициации) в каждой традиции различны, потому что различны сами эти “объективно-онтологические ценности”. Объект инициации задает сам способ инициации. Те онтологические отношения, которые существуют между естественным и сверхъестественным миром и задаются всегда последним, являются отношениями “мистическими” – их природа неизвестна человеку, поэтому она остается “тайной”, то есть “мистикой”. Поэтому мистическое сознание свойственно всем религиозным традициям, оно логически вытекает из самой религии как “сакральной традиции”. В этом смысле можно сказать, что “сакральное” и “мистическое” – это относительные корреляты, как священное и тайнодейственное. Но, какими бы таинственными не были отношения естественного и сверхъестественного, в каждой религии существует точное представление об общем принципе этих отношений – и это представление в языческой и христианской парадигме категорически отличаются. В языческой парадигме, с чем согласны большинство “традиционалистов”, отношения между естественным и сверхъестественным основаны на принципе проявления, то есть воплощения, первое возникает из второго как его прямое воплощение. Две древние “национальные” философии, индийская и греческая, предложили концептуальную, метафизическую экспликацию этой общей языческой мистики – первая в доктрине адвайта-веданты, вторая – в доктрине платонизма и неоплатонизма. Здесь действует общий принцип – безличностное, трансцендентное “божественное начало” (“Брахман” ведантистов или “Благо-Единое” платоников) порождает свою имманентную ипостась и всю иерархию субъект-объектных отношений воплощенного бытия, которое рано или поздно неизбежно возвращается к своему источнику (апокатастасис). Это “божественное начало” порождает все имманентное бытие своей энергией и само это бытие предстает постоянно пульсирующим круговоротом энергий различного уровня, взаимоотношения которых порождают новые формы и индивидуации. Отсюда закономерное для всей языческой мистики представление о том, что любые действия и изменения в этом проявленном мире возможны только посредством правильного обращения с этими энергиями, то есть посредством “магии” (в этом плане такие языческие дисциплины как “астрология” или “алхимия” основаны на тех же, магических принципах). Когда ученые-“гуманисты” из эпохи так называемого Ренессанса возрождали античную науку, их интересовало, прежде всего, раскрытие тех тайных принципов, с помощью которых можно управлять природой, причем, как физической, так и психической. Безусловно, только весьма профанное восприятие европейской магической традиции может увидеть в ней исключительно поиск физических ценностей – эти цели преследовала уже секулярная наука, но накануне своего возникновения, в своей “ренессансной” стадии она еще ставила перед собой “духовные” задачи, в частности, тот же алхимический процесс превращения свинца в золото должен был быть “инициатическим” просто потому, что в его результате должно было происходить “духовное” преображение самого алхимика (и так во всех подобных случаях). Эту магическую науку действительно можно назвать “сакральной” и “традиционной”, но только при одном напоминании – это языческая сакральность и это языческая традиция, где представление о мистике ничем не отличается от представления о магии. Языческая мистика – это языческая магия, и те, кто сегодня под предлогом “возрождения традиционного сознания” обращаются не к христианским, а к языческим принципам, фактически возрождают ту же магию. Испуганные ужасом Модерна, постмодернисты “справа” пытаются возродить абстрактную “интегральную Традицию”, не различая существенных противоречий между реально существующими религиозными традициями. Отрицая парадигму Модерна в ее целом и не замечая противоречий в ней самой, они неизбежно отрекаются от тех элементов этой парадигмы, которые были лишь секулярной инверсией христианского, “средневекового” мировоззрения и не замечают тех элементов, которые сохранились в Модерне в наследие от язычества, возрожденного в эпоху Ренессанса. О каких элементах идет речь?
Христианское мировоззрение, как мировоззрение религиозное, по определению, является мистическим, но христианская мистика сущностно отличается от мистики языческой, то есть магии. Христианский Бог – это не безличностное “божественное начало”, а это – абсолютная трансцендентная Личность. Понимание этого факта априорного персонализма христианской теологии имеет ключевое значение для понимания всей метафизической уникальности Христианства: Бог в Христианстве – это Личность, Его “личностность”, говоря философскими терминами качества, определяет Его природу, а не является второстепенным аспектом или модусом этой природы. Непереоценимое концептуальное значение этого факта было реанимировано в богословии т.н. христианского персонализма ХХ века, особенно в школе “неопатристического синтеза” (отец Георгий Флоровский, Владимир Лосский) и современного греческого богословия (Христос Яннарас, Иоанн Зизиулас). Бог-Личность не проявляет мир из Своей природы, а творит его в свободном волеизъявлении, и творит человека в этом мире по Образу и Подобию Своему, то есть не как случайную индивидуацию в потоке воплощений, а как свободную личность. Следовательно, отношения между сверхъестественным и естественным в христианском космосе определяются не умелым обращением с магическими энергиями, а личным общением Бога и человека, а также человека с другими людьми. Отношения между личностями в тварном, христианском космосе первичны по сравнению с отношениями между безличными энергиями, поэтому можно сказать, что этическая проблематика здесь имеет несравнимо большее значение, чем в язычестве – этика здесь не последует метафизики, а, можно сказать, в правильном понимании этого слова, тождественна метафизики, ибо Бог-Абсолют здесь тождественен понятию Бог-Личность, а первичный метафизический акт – это акт Его свободной воли, а не безличной эманации. Наконец, вся “судьба бытия”, вся метафизическая историософия в Христианстве основана не на органических циклах инволюции (как в язычестве) или эволюции (как в классическом немецком идеализме), а на личном волеизъявлении каждой отдельной личности в общении с другими личностями и, прежде всего, с Личностью Бога, почему принципиальное значение для христианина имеет молитва (обращение к Богу-Личности), которая по своему назначению полностью противоположна магическому заклинанию (обращению к безличным стихиям-энергиям). Изначальной причиной всех исторических проблем христианская традиция, безусловно, видит в грехопадении первых людей, Адама и Евы, смысл которого состоит не просто в “непослушании” перед Богом, не в предпочтении “свободы” и “познания”, а как раз в отказе от своей реальной свободы и реального познания. Демонический змей в Раю сказал Еве, что после вкушения плода познания добра и зла люди будут “как боги, знающие добро и зло” – это был выбор чисто магического пути познания, пути, не требующего личного духовного подвига. Вкусив этот плод, Адам и Ева отказались от свободы богоподобной личности, а на вопросы Господа об этом преступлении Адам переложил вину на Еву, а Ева на змея, что окончательно подтвердило их отказ быть свободными и ответственными людьми, не оправдывающими свои несовершенства чужой волей и внешними обстоятельствами. Вся дальнейшая история человека – это не только история греха, это еще история оправдания греха, которому посвящена большая часть мировой социальной философии. Язычество и магия – это не “самая архаическая” форма религиозного сознания, это результат полного вырождения этого сознания по всему миру, у всех “языков”. Но пришествие Христа, Воплощенного Слова и основание Его Святой Церкви вновь открывает всему миру Бога как Личность и утверждает новую этику, этику свободной богоподобной личности. Став человеком, Бог явился человечеству именно как Личность, и Его Церковь – это свободное собрание свободных личностей. Именно поэтому в Новом Завете еще больше раскрывается персонализм Ветхого Завета, а Христианство – еще более персоналистическое учение, чем религия древних иудеев. Те иудеи, которые не приняли Новый Завет, отказались от истинного Бога-Личности Ветхого Завета, поэтому они не продолжили свою религию, а фактически создали новую – иудаизм, который на отрицании Христианства стал скатываться в язычество, равно как “космополитическая версия” этого иудаизма – ислам. Иудаизм и ислам, называемые в конвенциональном религиоведении “авраамическими” религиями за счет своей апелляции к ветхозаветной истории, на самом деле могут быть рассмотрены как очередная версия язычества, со своей магией (каббала и суфизм), но, в отличие от других языческих религий, сохраняющие представление о трансцендентном Творце, который по своим качествам напоминает гностического демиурга, а не Бога-Троицу Нового Завета. В реакцию на окончательное “опаганивание” иудаизма и ислама в XVIII веке (то есть уже в эпоху зрелого Модерна) в этих религиях возникли “антиязыческие” движения, полусекулярная гаскала и фундаменталистский ваххабизм, которые заявляют о своей борьбе с элементами магии, но на самом деле отрицают любую мистику, в том числе мистику личных отношений Бога и человека. Попытка этих движений очистить свои религии от языческих привнесений возвращает их не к подлинному Богу-Личности Авраама, Исаака и Иакова, а к умозрительной, безличной абстракции того же гностического демиурга, из которой вырастает “деизм” эпохи Модерна. В этом смысле, не-христианский авраамизм является такой же инверсией язычества, как “деизм” является инверсией “пантеизма”. Обе крайности едины в одном – общем отрицании Бога как Личности и поэтому могут породить только те социально-философские теории, где отрицается определяющее значение личности человека. Освобождаясь от диктата христианской теологии, идеологи Модерна думали, что освобождают человека от поклонения метафизическому диктатору, но они забыли, что этот “диктатор” является Личностью и именно поэтому придает статус личности самому человеку. Поэтому преодоление “средневекового” христианского теоцентризма на путях антропологической “эмансипации” в эпоху Модерна привело вовсе не к освобождению, а к настоящему закабалению человека в бесчисленных детерминистских программах – геодетерминизме, этнодетерминизме, историцизме, органицизме, механицизме, гегельянстве, марксизме, дарвинизме, фрейдизме, ницшеанстве, позитивизме и т.д. Все эти учения, какими бы сложными и неоднозначными они не были, в любом случае служат концептуальному оправданию истории человеческого греха – истории войн, тираний, революций и т.п. Все эти учения претендуют на конечное выяснение причин человеческого несовершенства, на “познание добра и зла”, с помощью которого человек сможет сделать свою жизнь лучше и целесообразнее, освободившись от прежней “тьмы незнания”. Но все эти учения предлагают любые внешние причины человеческого несовершенства, кроме одной причины – его собственного, личного нежелания быть совершенной личностью, и поэтому все они предлагают любые внешние способы решить проблему человеческого несовершенства, кроме одного способа – личного духовного усилия самого человека. Тем самым, человек еще более утверждается в своем грехопадении и еще более отказывается от подлинной свободы – свободы богоподобной личности.
На этот упрек апологеты Модерна могут ответить, что в самом “проекте Модерна” как раз сохранилось представление о ценности человеческой “личности”, которая будет полностью элиминирована из Постмодерна. Это действительно так – в Модерне сохраняется аксиоматическая ценность “личности”, и именно поэтому между классическим Модерном и христианским Средневековьем можно обнаружить прямое преемство. Можно заметить, что Модерн не только возрождает в себе начала до-христианского, до-средневекового античного космоцентрического секуляризма, но и сохраняет определенные начала самого Христианства, главная из которых – ценность “личности”. Эта же ценность порождает на других уровнях целый ряд других ценностей, так что аксиологические конструкции Христианства и Модерна могут выглядеть очень схожими, но только с одной, кардинальной разницей – в Христианстве эта аксиология основана на сакральном представлении о Боге-Троице, а в Модерне это основание отсутствует, это секулярный проект. Понимание этого различия и, одновременно, определенного сходства между “идеологиями” Христианства и Модерна порождает полярное отношение к самому проекту Модерна со стороны его противников. С чисто христианской, ортодоксально-христианской точки зрения все зло Модерна состоит в его секуляризме, в его подмене задач личного духовного совершенства задачами социально-материальной инженерии, в его низведении бессмертной богоподобной личности на уровень смертного безличного животного, почему само понятие “личности” в Модерне полностью обессмысливается и носит условно-моральное значение. С другой, не христианской, а именно языческой точки зрения все зло Модерна тоже состоит в секуляризме, но не как подмены лично-духовного внешне-материальным, а как именно квази-христианского проекта эмансипации человека. Христианское сознание отрицает в Модерне его стремление подчинить человека безличным стихиям, язычество же отрицает в Модерне в его стремлении освободить человека от этих стихий. Это две разные критики, и они направлены против Модерна с противоположных друг другу сторон, обе критики упрекают апологетов Модерна в забвении сакрального, но они по-разному понимают само сакральное, и каждая из этих критик видит в Модерне проводника противной позиции. Для христиан Модерн слишком “языческий”, для язычников слишком “христианский”, поэтому никакого “единого фронта традиционалистов” в борьбе с Модерном нет и быть не может.
Христианское и языческое мировоззрение представляют собой взаимоисключающие типы религиозного сознания, и мы вынуждены признать, что само представление о “парадигме Традиции” сегодня во многом узурпировано именно последним типом – это, прежде всего, проявляется в том, что все признаки реабилитации “сакрального” в Постмодерне, как правило, остаются реабилитацией именно языческой сакральности. В этом плане Постмодерн можно было бы назвать “вторым Ренессансом” или “неоренессансом”, но только с той принципиальной оговоркой, что “Ренессанс” XIV-XVI вв. все-таки стремился найти в языческой Античности идеальные “аполлонические” принципы эстетики, а Постмодерн таких принципов не ищет вообще, это возрождение софистического релятивизма, эстетически вполне соответствующего уродству “дионисийского” язычества. Периодические намеки на то, что хаотическая философия и эстетика Постмодерна уже имеет прецеденты в истории “кризисных” “периодов межвременья”, когда “старые боги умерли, а новые еще не родились” (например, “декаданс” начала XX века), по-своему верны, но не до конца, ибо “декаданс” знал о том, что он “декаданас”, а Постмодерн претендует на новую, глобальную историческую парадигму, причем последнюю. Но в любом случае Постмодерн возрождает именно языческое сознание с его отрицанием трансцендентной творческой Личности и магическим органицизмом, реабилитируя тем самым любые иные, антихристианские идеологии от цезаризма и нацизма до коммунизма и анархизма. Теоретически можно допустить мысль о том, что поскольку сам Модерн распадается на секулярно-нигилистическую и квази-христианскую составляющие, то и реакция на Модерн в виде Постмодерна будет неоднозначной, и возможно говорить о “христианском Постмодерне”, реанимирующим “средневековый” теоцентризм. Однако мы вынуждены признать, что говорить о “христианском Постмодерне” сегодня можно не более, чем об “исламском Постмодерне” или “иудейском Постмодерне”, поскольку любое религиозное мировоззрение получает свои права на существование в самом Постмодерне не более, чем какое-либо иное мировоззрение. Да, Постмодерн позволил обрести Христианской Церкви те права, которых у нее не было в Модерне, но вместе с этим обрели права все остальные позиции, и эта ситуация возможна именно потому, что в Постмодерне торжествует новый, пост-модерный релятивизм и нигилизм, свойственный именно языческому сознанию. Нигилизм и релятивизм Модерна были противоречивы, ибо на их основании пытались построить новый, “позитивный исторический проект” с новой, целостной “научной картиной мира” и новым историсофским “метанарративом”. Эта социальная проективность Модерна была возможна только потому, что, отказавшись от сакрального смысла Христианства, он не отказался от многих его принципов, прежде всего, от принципа свободной сознательной Личности. В Постмодерне уже нет этого противоречия, потому что нигилизм и релятивизм Постмодерна идут до конца и порождают “ситуацию”, где уже никакой глобальный “проект” невозможен, а возможно только сосуществование всех возможных “проектов” без всякого выделения каждого из них. Совершенно очевидно, что такое “сосуществование” невозможно, что это лишь очередная у-топия и у-хрония: Постмодерн обозначил историческую и, возможно даже, географическую ограниченность “проекта Модерна” (превратив его всего-навсего в “цивилизацию Модерна”), но из этого не следует, что Постмодерн способствует экспансии “Православного Проекта”, ибо для него Православие терпимо только как этнографический культ, не более, чем любой другой культ. Это чисто языческое отношение к Православию и именно оно доминирует сегодня среди тех “правых” и “консерваторов”, кто спешно решил увидеть в Постмодерне глобальную “консервативную революцию”.
Отрицание метафизической ценности Личности имеет парадигмальное значение для всей “ситуации” Постмодерна, из него следует отрицание трех сущностных свойств Личности, которые, в свою очередь, являются базовыми ценностями Христианства и сохраняют свое значение в Модерне, но уже в секулярном виде. Во-первых, это ценность сознательной и ответственной автономии духа, благодаря которой только и возможно говорить о Личности. Во-вторых, это ценность интеллектуальности, благодаря которой Личность может сознательно и ответственно познавать свое бытие и быть способной на творчество. В-третьих, это свойство свободного волеизъявления, которое вообще позволяет Личности существовать и действовать, также сознательно и ответственно. Качества “сознательности” и “ответственности” – это минимальные требования к Личности, они отличают Личность от безличного. Христианство и Модерн проповедуют сознательность, а следовательно, ответственность, язычество и Постмодерн – бессознательность, а следовательно, безответственность. Но сознательность и ответственность возможны только в том случае, если они основаны на автономии духа, интеллекте и свободе воли. Разберем эти три свойства более подробно.
1. Автономия духа – это факт выделенности сознания из бытия как устойчивой и самотождественной инстанции внутри самого “потока бытия”, инстанции, способной к трансцендированию от него и к самостоятельной, незаинтересованной оценке бытия во всех его проявлениях. В христианской теологии Бог-Личность творит человеческие души не как животных существ, а как подобные Себе автономные “я”. В отличие от Христианства, язычество учит отказу от своего “я” либо в экстатическом растворении в “мировой душе”, как в дионисийстве, либо в бесчувственном погружении в “нирвану”, как в буддизме. Философия Модерна отрицает божественное происхождение человека, но сохраняет сам принцип автономии “я”, оставляя за ним сначала условно-трансцендентный, а потом и трансцендентальный статус. Современная материалистическая наука не может ответить на многие вопросы, но самый главный из них – вопрос о происхождении человеческого “я”, и эта априорная необъяснимость “я” в любом случае свидетельствует о его трансцендированном статусе. В Постмодерне тема “я” подвергается жесткой дискредитации именно как коррелят темы “личности”, и в этом отношении антиперсоналистический пафос Постмодерна направлен как против Модерна, так и против Христианства.
2. Интеллектуальность – это способность к последовательному и адекватному познанию, способность к сравнению и различению внешних данных бытия, а также к продуктивной деятельности личности как единственной творческой инстанции бытия. В Христианстве ценность интеллектуальности воплощена в категории “Логоса”, одного из имен Второго Лица Святой Троицы; эта категория может быть воспринята как “Ум”, а может быть как “Слово”. Интеллектуальная и вербальная деятельность Личности взаимопредполагают друг друга, более того, наиболее совершенное мышление – это мышление логическое, а следовательно, способное быть выраженным в слове. Христианство – это религия Слова и она выражена в слове, в Священном Писании и Священном Предании. Интеллектуальные практики и логические законы только способствовали изложению и развитию христианского бого-словия, из которого напрямую выросла философия Модерна. Постмодерн отрицает классическую логику и любой логоцентризм, как “средневековый”, так “нововременной”. В Постмодерне якобы возрождается сакрально-традиционная логика, под которой понимается “логика” сугубо языческая: т.н. “дологическое мышление” Леви-Брюля, порождающее принцип “партиципации” сознания, то есть его расщепления на “я” и “не-я”. Примечательно, что другие исследователи религии определяли сакрально-традиционное мышление подобным же образом: как “аналоговое” (Грэгори Бэйтсон) или как “синхронное” и “аказуальное” (Карл Густав Юнг). Эта редукция была возможна именно потому, что сакрально-традиционное сознание было противопоставлено сознанию секулярному как якобы “иррациональное” – якобы “рациональному”. Эта оппозиция до сих пор доминирует в конвенциональном религиоведении, хотя нет внятного разъяснения двум обстоятельствам. Во-первых, почему секулярное мышление отождествляется с рационализмом, который действительно был магистральной линией классического Модерна как секулярная инволюция “средневековой” схоластики, но не больше способствует отрицанию Бога-Личности, чем иррационалистическая логика всех противников картезианства? Во-вторых, почему сакрально-традиционное сознание отождествляется только с магической “аказуальностью”, хотя даже языческая теология всегда пользовалась, единственно существующими, законами логики? Наконец, христианское богословие вообще не имеет никакого отношения к какому-либо архаическому “иррационализму”, хотя оно, конечно, также не укладывается в стандарты секулярного “рационализма” – оно всегда активно пользовалось законами классической логики, но в своих основаниях (в учении о Боге-Троице) оно может породить собственную логику, которую в терминах Клода Леви-Строса можно было бы назвать “сверхрациональной”. Однако, эта логика имеет отношение только к теме Бога-Троицы, а не к Его Творению, и не только не расслабляет интеллектуальное напряжение богослова, но еще больше способствует этому напряжению. Таким образом, интеллектуалистский пафос в Христианстве звучит не меньше, чем в Модерне, и антирационалистическая установка Постмодерна сопротивляется не только классической логике, но и самому христианскому богословию.
3. Свобода воли – это свойство Личности, позволяющее ей проводить свою интеллектуальную деятельность, совершать свой интеллектуальный выбор, и наоборот – только наличие интеллекта позволяет Личности действовать свободно, то есть свободно выбирать, оценивать и творить. Если пойти рискованным путем катафатического богословия, особенно свойственным западным схоластам, то можно было бы сказать, что в Боге-Троице “функции интеллекта” выражает Логос, а “функции свободной воли” выражает Дух, и как Оба Лица Единой Святой Троицы немыслимы друг без друга, так и обе функции напрямую взаимозависимы. Однако, мы не можем приписывать Лицам Единой Святой Троицы какие-либо положительные функции, ибо Они определяются только апофатически. Другой вопрос, что сама задача положительного богословия вынуждает идти путем катафатики и на основании того, что нам известно о священнодействии каждого Лица Святой Троицы, придавать им эти “функции”. В отношении же человеческой Личности мы можем сказать, что интеллектуальность и свободоволие – это два его сущностных свойства, основанных на метафизической оси его духовной автономии, его “я”, и эти свойства не существуют друг без друга: интеллектуальность может быть только свободной, свобода может быть только интеллектуальной. Свобода воли человека в Христианстве предполагает его ответственность, а следовательно, сознательность, а следовательно, интеллектуальность. В то же время, наличие свободы воли необходимо человеку для реализации Божественных назначений, которые в мире грехопадения часто заключаются в проведении христианской миссии, неизбежно связанной с социальной экспансией Церкви и сопротивлением различным ересям. Христианское сознание активно и экспансивно, и это отличает его от языческого сознания, которое довольствуется отведенным ему пространством и не чувствует потребности в распространении своего мировоззрения. Эта же экспансионистская установка унаследована от Христианства в Модерне, но полностью отрицается в Постмодерне. Поскольку в Постмодерне отрицается существование единственной Истины, тем более отрицается сама задача распространять эту Истину по всему универсуму. Из этого же отрицания следует отказ от единой универсальной картины мира, который распадается на бесчисленное количество фрагментарных и атомарных миров, существующих как будто бы наравне друг с другом, – в этом плане Постмодерну идеально соответствует система интернета как принципиально децентрализованное пространство совершенно независимых друг от друга “миров-экранов” (про которых можно было бы сказать, что они напоминают собою бесчисленное множество “присутствий” Хайдеггера или “ризом” Делеза, но только в виртуально-электронном измерении). Таким образом, Постмодерн очень способствует любому социальному эскапизму, ибо его философия изначально построена на констатации принципиально партикулярной природы любой “позиции”. Это одно из тех обстоятельств, на которое очень надеются некоторые “постмодернисты справа”, увидевшие в Постмодерне шанс на легитимацию любого этнокультурного “суверенитета”. Эту надежду следует развеять: Постмодерн действительно не отрицает какой-либо суверенитет и весьма способствует деконструкции каких-либо “глобалистских” образований (церковных или имперских), в этой части он даже наследует Модерну с его проектом “государств-наций”, но – Постмодерн полагает любой суверенитет в чисто виртуальном смысле, не имеющем никакого отношения к социальной реальности (если только не считать реальностью “суверенитет” интернетовских страниц). Постмодерн также способствует разрушению “государств-наций”, как и империй, ибо он отказывает в праве на господство кому-либо, а любой суверенитет нуждается в господстве, хоть в каких-то реальных территориальных масштабах. Поэтому в Постмодерне признается свобода как право на существование, но отрицается свобода как право на экспансию и господство – в нем “все можно, но ничего не возможно” (прямо как в “обществе спектакля” Ги Дебора: “все смотрите, но ничего не трогайте”). Постмодерн – это чистый либерализм, либерализм как ситуация, как система, а не как политический режим победившей “партии либералов”, то есть Модерн.
Из всего вышеизложенного ни в коем случае нельзя сделать вывод, что оппозиция Христианства и язычества воспроизводит себя в оппозиции Модерна и Постмодерна, речь идет лишь о том, что Постмодерн вовсе не является той долгожданной реакцией, которая способствует всемерному возрождению Христианства: права христианской и языческой идеологии в Постмодерне принципиально равны, при том, что язычество больше соответствует самому духу Постмодерна, чем Христианство. Правая, консервативная рефлексия Постмодерна распадается на две версии – христианскую и языческую, между этими версиями нет ничего общего, кроме отрицания проекта Модерна как проекта секулярного, и ожидания, связанные с наступлением постмодерной эпохи, в Христианстве и язычестве принципиально различны. Однако, в наше время, на исходе первого десятилетия XXI века, мы можем ясно констатировать, что эпоха Постмодерна, обещавшая стать эсхатологической, подходит к концу – Постмодерн также недолговечен, как и Модерн. В прошлом веке немногие из нас, православных традиционалистов, видели в Постмодерне “союзника” в борьбе с тоталитарным господством Модерна, но сегодня у нас появилась возможность созидать, а не разрушать, выстраивать свой, глобальный Православный Проект, и на этом пути Постмодерн не только не помогает нам, но только мешает. И перед нами ясно стоит задача Преодоления Постмодерна. Решение этой задачи невозможно, если мы воспримем ее автономно, как самоцель, без четкого понимания, зачем нам нужно это преодоление.
Преодоление Постмодерна – это преодоление философии самодовлеющего релятивизма и нигилизма, ставящей на один уровень все возможные позиции и отрицающей существование абсолютной Истины. Основная стратегия Постмодерна – это “игра на понижение”, девальвация и виртуализация любых мировоззренческих вызовов и конфликтов, и поэтому этой стратегии можно противопоставить только обратную “игру на повышение”, сверхсерьезное отношение к этим вызовам и конфликтам, напоминание об их реальном онтологическом значении. Это значение возникает из невиртуального, прямого влияния этих вызовов и конфликтов на жизнь каждой отдельной личности и жизнь общества в целом. Мы можем бесконечно рассуждать о “конце идеологий”, но никуда не исчезли те реалии, на которых физически держится существующий мир и которые требуют “идеологического” оправдания – государственное господство над территориями, энергетические источники, монополии на ресурсы, оружие массового уничтожения, аппараты легитимного насилия, наконец, медийная и культурная пропаганда. Эти явления не только не исчезли, они никогда не исчезнут, ибо они позволяют реализовать свои цели различным мировоззренческим позициям, особенно самую главную из этих целей – тотальную монополию на Истину.
Статья опубликована в альманахе «Северный Катехон» №2 (2007). С. 128-141.